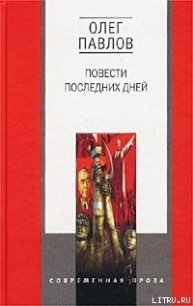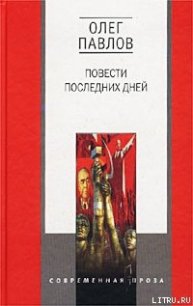Дело Матюшина - Павлов Олег Олегович (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации TXT) 📗
– Да как же, Егорушка… – ревела потихоньку мать. – Пожаалей, простиии… Сыночек наш…
– Все. Конец ему. Дам приказ в комендатуру, в милицию, ловят пусть его и сажают, на хрен, дезертира. Нет у меня такого сына.
Но так опозорить себя отец не мог. Он ждал, понимая, что Яков может прийти опять, готовился его встретить, то есть и не выставить уж, а не впустить. Ждал тягостно и Матюшин, хоть и не мог понять происходящего. Но не пришел Яков. Отец остался дома и никого не хотел выпускать, точно боялся. Не пришел Яков и на второй день, и на другой, когда отец опять остался сидеть дома. Матюшин же понемногу узнавал, что было.
– Со службы Яшенька сбежал… Бросила Людка его… Увезла от нас Аленушку, внученьку мою единственную увезла… Запил Яшенька… Прогнал Яшеньку отец… Проклял… – уж будто и с облегчением проговаривалась мать, но помалкивала при отце.
Мигом исчезли все фотографии, сдуло их, и Матюшин с удивлением поглядывал за отцом – ничего с ним не делалось. Что так жить, что без этой Аленушки было ему едино. Только и важно было – стереть из памяти, чтоб не лезло в глаза, точно если не стало фотографии, то и человека не стало. Права не имела и мать ничего вспоминать, и он, Матюшин, должен был все забыть. На третьи сутки отец выздоровел, даже и поздоровел, отоспался, отъелся. Он так уверовал, что Яшки больше нет ни в жизни его, ни в Ельске, что о нем и не стало разговоров.
Дела, что накопились в гарнизоне, верно, задержали его, так что не приехал к ужину, и ужинать сели без него. Но раздался звонок, пошла мать открывать, был это Яков. Может, слыша, что пахнет из кухни едой, ввалился по-хозяйски и уселся в чем был за стол. Матюшин затих у своей тарелки и не мог наглядеться на брата, в котором и следа не осталось от того, которого он помнил. Тянуло пьяной вонью, щетина делала его синюшное, засушливое лицо грязным, даже отвратительным, точно он покрывался шерстью. Одет он был в гражданское, щеголял, важничал, ехал будто куда-то на праздник. Шляпа, пальто, ботинки, верно, одни-единственные, кроме которых ничего он не имел, взрослили, даже старили его, но и делали пронзительно жалким, будто и нищим. Из-под пальто выедал глаза ношеный костюм, откуда вывихнутым крылом торчал ворот рубахи и пылал оранжево, кричаще толстенный галстук.
– А ты все жрешь… – только и сказал он уныло брату, уставившись в недоеденную его тарелку.
Тут опомнилась боязливо мать:
– Может, положить тебе, Яшенька, борщика будешь?..
– Наливай, мать, люблю я твой борщ, никто в мире борща такого не сделает, наш, настоящий! Отец где, почему дома нет?!
– Да не пришел еще…
– Ишь, старый, все служит, никак не угомонится! Ты мне погуще, погуще, не жалей, всем хватит, я три дня не жравши!
Мать смолчала, а он забылся и врылся в борщ. Хлебал его, точно землекоп, налегая на ложку, будто на лопату. Вырыл ямищу в тарелке, сказал:
– Давай, мать, еще наливай, добавку мне!
Она ответила ему, с места не двинувшись:
– Нету добавки у меня, Яшенька, только отцу осталось. Уходи, а то щас вот придет, не волнуй, знаешь отца, не хочет он тебя видеть.
– Это что значит – не хочет, что я, не у себя дома, у чужих людей сижу, борщ чужой жру?! – вскричал он, столбенея.
– Ты к себе домой поезжай, вот и все, поел на дорожку и поезжай, а потом, глядишь, и простит отец, уладится.
– Так вот что, значит, на х.. меня посылаете, сына своего? – вскричал он, и тонюсенько заплакал, и стал вдруг бить по тарелке пустой, крошить, дробить ее кулаком. – Вот тебе! Вот тебе! Пошел! Пошел! Сдохни! Сдохни!
Брызгала кровь. Он держал руку, протягивал, показывал, как ребенок показывает свою ранку, и незлобно, тихо приговаривал:
– Что же я такого сделал, кого убил, что такой мне приговор, всего лишили?.. Я ж люблю их, отца ж люблю, всех люблю, что ж все-то меня убивают! Учиться она хотела, а я не пускал, а этот пустит, этот умнее, не родное дите-то, ему ж не жалко… Труба у него есть, а у меня нет, он дудеть умеет, а я нет! За что, мама, за что?! Зачем ты родила меня, зачем вы с отцом не развелись, у меня б другая жизнь была, я б другой был, все бы другое было!
– Яшка, слышь, не начинай, хватит, докричался уж, а то и я знать забуду, кто ты есть! – ожесточилась мать. – Ты вон доразводился, что сидишь мычишь, пьяный. Что сделал, то сделал, понимать надо, и мычать нечего, не воротишь. Надо жить как есть, как вышло. Куда, куда ты за ней рвешься, ты что, сдурел, раз обжегся, так что, сгореть хочешь? Живи, никто тебе не мешает, только ведь живи, а сдохнуть хочешь, так и сдохнешь, ни отца тебе, знаешь, не надо, ни матери для этого дела, уйди с глаз, не мучай.
Яков плакал теперь, совсем согласный с ней, даже и просветленный. Мать отыскала бинт, почистила и перевязала молчком разбухшую его руку. Он только спросил ее:
– Чего делать мне? Теперь засудят, я права не имел бросать службу…
– Ну что ж, перед законом все равны, а ты часть самовольно оставил, понимать надо, – рассуждала всерьез мать. – Вернешься, повинись, так, мол, и так, вину свою осознаешь, больше не повторится такое. Только отца не позорь, не заставляй, чтоб весь город знал, а то не уедешь, он сам тебя сдаст, а так добровольно, с повинной, простят, никто и не заметит, все ж не солдат, а офицер, не станут позориться. Денег-то не пропил, есть на билет? Ну, гляди, дам на поезд, а пропьешь – не приходи, не открою…
Вид этого затравленного человека, который назывался его братом, рождал в Матюшине насмешливое неверие, как если бы он знал, что человек этот притворяется и ему вовсе не больно. Уже он простить не мог брату тех его брякнувшихся слов и окаменело ждал, когда не станет в доме, за столом этого ненужного слюнявого человека.
И не стало Якова в том дремотном их безвременье. Через три года прибыл хорониться в Ельск с чужестранной неслышной войны цинковый гроб, только так и стало известно, что Яков был, жил, воевал. Других родных, чтоб хоронили, у него не заимелось – Людмилка пропала без вести, о них с Аленушкой не слыхивали в семье с тех пор, как приезжал в Ельск и был проклят отцом Яков. Когда получили похоронную весточку, Григорий Ильич потрясенно подумал, что сын у него оказался герой. Но труп его пришел без наград, даже посмертной не дали, будто наказание отбывал или прятался, а не воевал. Хоть и писалось, что при исполнении, но не писалось, что геройски. Убивалась горем мать, но сквозь цинк не чувствуя тела родимого, не зная, а потому так и не веря, что он лежит в той цинковой обертке, – казалось, что смолкнет, прекратит плакать и, одумавшись, отойдет в сторонку от гроба. Матюшин понимал, что случилось горе, что погиб его брат, но ничто не шевельнулось в его душе, отчего даже было ему и страшно – душа была сама по себе, гнетуще холодная в нем. Все делали кругом какие-то люди, точно Яков им-то и был родной: таскали гроб, рыли могилу, заискивали перед отцом. Матюшин стоял у гроба и чувствовал только усталость, что тяжело ему было да тоскливо стоять. Отец же хранил суровую строгость, стоя у гроба, и не мог подойти к нему ближе двух шагов, будто и теперь какая-то сила отталкивала их друг от друга. Гроб ему привезли, показали и должны были, после короткой этой остановки, тут же закопать, но Яшка хоть и промчался мимо глаз их в могилу, но оставался-то уж навсегда, врезался со всей скоростью в могилку, из которой торчал теперь хвост стальной его обелиска. И надо было ухаживать за ней, как за домом своим, ходить к нему да и памятник ему ставить.
Его хоронили на «советском» кладбище, как называлось оно в народе, где хоронили партийных да тех, кто служил. Похороны должны потом были оплатить из военкомата, но отец не унизился, отказался брать. Да и не мог унизить святой той гордости, только и оставшейся: что сын его, офицер, погиб, исполняя долг. Он жаждал не столько себя уважать, сколько сына, то есть жаждал полюбить его теперь, не живого, но мертвого, который и остаться должен был с ним до конца дней.
С тех пор Григорий Ильич старался уединиться, чтоб никто ему не мешал. Если прежде Матюшин с ним виделся хоть за столом, то завелся вдруг в доме такой порядок, что отец столовался в одиночестве, будто есть ему мешали. Сначала мать накрывала ему, а потом, когда он уходил, за отцом словно доедали. Все у него стало отдельное, но ведь и Матюшин давал деньги в дом, а обходился отец с ним, как с иждивенцем. И, голоса не повышая, как бы ласково, сталкиваясь с ним, сам придумывал, напевал: