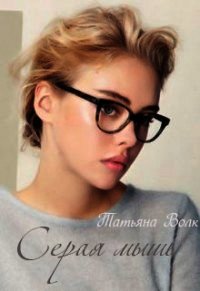Школа насилия - Ниман Норберт (читать хорошую книгу .txt) 📗
И, что забавно, — видимо, как раз за это они меня любят. Каждый раз, поднимая глаза от учебника, я встречаю сплошь благожелательные взгляды. Ясно, отмахиваешься ты, сейчас опять заведешь свою волынку про знаменитый пресловутый 11-й «Б», мой любимый класс. Майк и Ди-Джей Марлон, Улыбчивый, Амелия и Карин, не говоря уж о нашей любимой маленькой Наде. Душа драмкружка и влажная греза каждого сколько-нибудь приемлемого учителя немецкого. Так ведь ты думаешь? Но я совсем не об этом. Говоря о благожелательности, я и правда имею в виду всех, весь класс.
Даже Ивонну Блюменбеккер, даже если она взорвала пузырь жевательной резинки, скандально нарушив краткое молчание, обычно наступавшее после моего вопроса. Даже остальных, например, Бабси Бауэр и Конни Ион, прозванных Спайс-герлами. Они сидят, разумеется, на последних партах, у окна. В ряду, где девочки. На мясистом носу Ивонны, на ее огромных, красных, как роза, накрашенных губах повисли ошметки пузыря, и она уткнулась лицом в унизанные кольцами руки, пухлые, словно желатиновый пудинг. Вот заходили ходуном три тщательно взлохмаченные, похожие на шлемы прически этого женского батальона, поскольку наши прикольные крошки принялись не то щипать, не то колотить друг друга. Потом они всегда бросают на меня смущенные, хоть и сияющие взгляды, но такая уж идет игра.
После чего Эркан неизбежно демонстрирует свой коронный номер. Можешь полюбоваться: сей развязный подросток, господин Фискиран, щеголяет жестами и позами, которые собезьянничал у исполнителей гангстерского рэпа, и носит неизменные солнечные очки, приклеивает их гелем к пробору на кудрявой шевелюре и в один момент простым движением бровей стряхивает на глаза. А вот из его детской глотки, как лай, вырывается сварливое «Yo, yo, fuck you». При этом его правая рука совершает своеобразные толчковые движения перед животом, словно он собирается беспрерывно втыкать указательный палец в горлышко бутылки из под кока-колы. Ну, как тебе? Правда, все очень весело?
Только не подумай, что между нами может быть что-то вроде соглашения. Что-то вроде сговора между учениками и учителем, например, под лозунгом борьбы против общего врага и тому подобного. Скорее нас объединяет тот факт, что в ситуациях, когда я ставлю перед школьниками эти абстрактные вопросы, они тотчас замечают, что я так же беспомощен, как они.
И как раз тема воссоединения Германии, чтобы уж держаться приведенного примера, вызывает у всех запредельную скуку, тут при всем желании ничего не поделаешь. В конце концов, во время падения Берлинской стены они были маленькими детьми. Холодная война, ГДР и так далее, для них это все седая старина, не имеющая ни малейшего отношения к их безоблачно западной жизни. И что мне к этому добавить?
У тебя это, конечно, выходит лучше. Что касается свидетельств времени и их подновления, ты как-никак профи, а мои наблюдения в таких случаях почти полностью ограничиваются наблюдениями за твоими наблюдениями. С тех самых пор, с воссоединения. Тогда у меня была еще своя семейная квартира, и я торчал у себя в комнате, положив ноги на кукольную коляску Люци. Тогда ты еще выглядел совсем иначе: волосы седые, зубной протез пожелтел от бесконечного курения. Отмечен печатью прежней жизни, которую, это как-то сразу читалось на лице, теперь бесповоротно оставил в прошлом.
Я, правда, с волнением и безотрывно следил за новостями, в передачах весь процесс называли мирной революцией; но в то же время он увлекал меня не больше, чем хорошо сделанный триллер. Что-то вроде анонса криминального сериала с документальными вкраплениями, как «Список Шиндлера», «Родина» или «Смертельная игра», в точности. Разве что каждую серию снимали в тот самый момент, когда я сидел перед телевизором. С одной стороны, такие, как я, вроде бы живьем присутствовали при всех событиях, с другой стороны, нас это вообще не касалось. Помню, я даже слегка стыдился своего равнодушия.
Ты приложил все мыслимые усилия, чтобы эпохальное событие было соответственно эпохально отпраздновано в наших домах; к сожалению, это не помогло. Как страстно я ни убеждал сам себя, как ни внушал себе, что все происходит взаправду, что все действительно имеет место, что вот на экране рушат настоящую стену. Берлинская стена пала и осталась, так сказать, приклеенной к экрану.
С тех пор я равнодушен ко всякой истории и потому постоянно испытываю потребность в самооправдании. Все, что там происходит, — думаю я на улице, в классе или дома, за компьютером, — всегда к данному моменту уже переварено, как бы давно миновало. Событиям, если уж они прошли у тебя сквозь пальцы, просто не хватает какой-то доли убедительности. Я бы даже рискнул утверждать, что, чем больше стараешься удержать события, тем быстрее они ускользают. Да ты и сам это, конечно, знаешь, но мне твое знание не помогает. События ускользают от меня, как и от любого, кто еще хватает у тебя каждую картинку.
И как же еще с ними справляться? И вообще — с чем? Может быть, с той впечатляющей силой, с которой ты берешься за дело? Извини, если я немного перегибаю, но я уже снова нервничаю, из-за нашего разговора нервничаю. Ведь что все это значит для людей, которым нет и двадцати? В каком они состоянии? После стольких лет, в течение которых ты воплощал для них весь внешний мир? За эти годы они росли, взрослели, получили воспитание, ты воспитал их — для чего? Ведь все они как-никак твои дети, сожалею, что не могу выражаться менее банально. С кем я теперь, собственно, имею дело, что ты с ними сотворил, с этим твоим выводком, — вот что хотелось бы выяснить. Если уж даже я, который, видимо, сидит с ними в гнезде, превратился в такого слабака и дурака?..
Конечно, никто из класса не вызвался отвечать. На такой-то вопрос. Конечно, я и не надеялся, что кто-то вызовется или ответит. Даже Надя молчала. И на прошлой неделе она демонстративно держалась в тени, по крайней мере до сегодняшнего утра. Нет, школьники не тупицы, в этом мы с тобой можем быть уверены на сто процентов и раз навсегда. Они точно знают, чего от меня ждать.
Итак, я взглянул в окно, я всегда смотрю в окно после подобных вопросов, на выезд к шоссе, где шныряют грузовики, фирменные фургоны и рейсовые автобусы, недолго, но все-таки две-три необходимые для разгона минуты. О чем я при этом думаю? Так, размышляю о том о сем. На последнем уроке в среду, о котором речь, я думал об их странной симпатии к моим дидактическим опытам, о нашем альянсе при полном отсутствии интереса. Я выуживаю слова из учебника истории, чтобы те дрыгались наверху, в смертельном воздухе классной комнаты. Классу нравится наблюдать за этим дрыганьем. Вот такая штука.
И эта штука порой сводит меня с ума. В последнее время все чаще. Заставить бы их самих дрыгаться вместо слов. Поддеть на крючок несколько экземпляров из их молодежного муравейника, каковой для меня не меньшая абстракция, и подробненько рассмотреть под лупой. Под таким увеличением, чтобы не осталось ничего, кроме ужаса неподвижного учительского глаза. У меня действительно возникает порой страстное желание наказать их, нет, покарать не знаю за что. Скверно.
Конечно, это просто смешно. Но с некоторыми получается, по крайней мере чуть-чуть, они приходят в смущение на несколько секунд, прежде чем снова погрузиться в привычное безразличие.
Мишель Мюллер, например; она сидит прямо передо мной, пухленькая маленькая зубрила. И как же она сразу зашаркала толстыми голыми ногами в уродливых коричневых сандалиях, когда позавчера я пристально посмотрел на нее. От страшного смущения покраснели даже пятки. И вот тебе пожалуйста. Запуганная, совершенно зажатая, так и так почти исключенная своими однокашниками. Тот факт, что мой взгляд инстинктивно падает прежде всего на нее, доказывает, какой я трус.
Нормально, вполне нормально, считаешь ты, ведь все мы свиньи, бессильные против соблазна унижать таких заведомо потерянных для жизни людей?
Эта Мюллер выросла еще на одном из хуторов на восточной окраине города, где теперь новый промышленный район. Настоящая крестьянская девка, я уж думал, таких больше не бывает. Юбка, блузка, волосы. Как будто она только что из коровника и из школы отправится прямиком туда же. Она сама корова, язвят красотки вроде Софи Ланге или этой Шольц. Передразнивают ее, выпучивают глаза, пялятся, двигают челюстью, будто жуют. Похоже, они и впрямь больны, эти выпученные глаза Мишель. Прибавь сюда ее заторможенные движения, ее пришибленность и молчаливость. Но при этом она далеко не такая тупица, как та же Софи, у которой на лице просто написана невосприимчивость к понятиям.