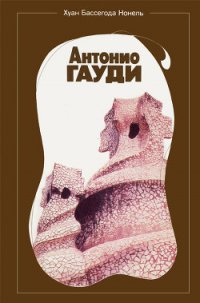Польский всадник - Муньос Молина Антонио (читать книги онлайн txt) 📗
Он дал объявление в ежедневной газете «Развитие торговли» и каждое утро не без тщеславия перечитывал свое имя и звание, шумно прихлебывая из большой чашки шоколад, подаваемый ему почти на ощупь хозяйкой – молчаливой и сердобольной женщиной, которая, догадываясь о его нужде, не требовала скудную плату за наем и, кроме того, мастерски готовила какао, чему научилась на службе в доме приходского священника из ближайшей церкви Сан-Исидоро. Он допивал свой шоколад, вытирал губы заштопанным платком, аккуратно складывал газету, помешивал кочергой жалкую кучку углей и принимался ждать прихода какого-нибудь больного, без тени отчаяния или нетерпения, ни на секунду не теряя веры в себя и неизбежный успех своего медицинского искусства. Однако в то время, как много лет спустя признался врач Рамиро Портретисту, оно было довольно посредственным, поскольку он не только не имел никакого опыта, помимо рассеянного присутствия при вскрытии тощего и сто раз перезашитого трупа, но и теоретические знания его не выходили за рамки правил и анатомических описаний, выученных наизусть, чтобы выкручиваться на экзаменах, проходивших кое-как в бурлящих аудиториях Центрального университета, более увлеченных, в преддверии триумфа Революции, политическими дебатами и гневными митингами, чем диссертациями ученых, многие из которых были активными участниками революционного движения или старыми ретроградами, безутешно оплакивавшими гибель династии.
Так что он изучил медицину намного позже, чем повесил на стене комнаты, получившей название приемной, свой диплом врача – лишь в те в дни одиночества и нужды, когда взялся наконец за чтение привезенных из Мадрида толстых томов, в которые не заглядывал прежде: он делал это не из увлечения, а от скуки, потому что газеты, приходившие в Махину из столицы, поступали с археологическим опозданием, а издававшиеся в городе представляли собой жалкие листки с сельскохозяйственными или патриотическими стишками, объявлениями о девяти днях и сообщениями о смерти. Не было ни телеграфа, ни газового освещения, ни кафе – а лишь грязные погреба, пропитанные запахом перебродившего сусла: больных не было и в помине или, по крайней мере, он ничего не слышал о них до этой карнавальной ночи, когда к нему обратились за помощью с такой поспешностью и бесцеремонностью. Однако когда это случилось, он жил в Махине уже два месяца, не имея возможности сменить грязную рубашку, и существовал исключительно благодаря милосердию или снисходительности хозяйки: она пунктуально подавала ему его единственное за целый день блюдо – чашку шоколада, возможно, происходившего из кладовой священника, и крестилась, искоса глядя своими близорукими глазами, когда он обещал ей незамедлительную выплату задолженности за наем и предлагал, в качестве компенсации, прослушать ей грудь своим знаменитым фонендоскопом, который ему до сих пор не удалось испробовать на практике, если не считать обследования (всегда удовлетворительного) своего собственного организма.
Если бы не мужественный характер и здоровый образ жизни, он сразу пал бы духом – так далеко от Мадрида, кафе с оркестрами и газовыми лампами и кипучей политической жизни; но он оказывал невезению и отчаянию такое же гордое сопротивление, как и стуже, прогуливаясь каждое утро, даже в самую холодную и ветреную погоду своей первой зимы в Махине, не закрывая рта краем плаща и нарочно вдыхая ледяной воздух, чтобы проветрить легкие и наполнить кислородом кровь. Так он сносил лишения и боролся со скукой, принимая монашеские тяготы своего одиночества как обстоятельства, способствующие укреплению тела и духа, ослабленных, говорил он себе, беспорядочным богемным образом жизни в Мадриде и нездоровой горячкой политического сектантства. Любой другой человек сдался бы на его месте, и даже он сам, будь ему куда отступать. Именно полное отсутствие средств парадоксально не оставило ему другого пути, кроме упорства, поэтому каждое утро он продолжал выпивать чашку шоколада и, надев белый халат, глядел на пустые стены, рисунки на ширме и дверь, в которой иногда появлялась лишь вовсе не воодушевляющая фигура полуслепой хозяйки. Каждый вечер он снимал свой халат, прежде чем пройти в другую комнату, которую только такой убежденный оптимист, как он, мог по-прежнему считать своим частным жильем, ложился на соломенный тюфяк, укрываясь ослиной попоной, сюртучком, дорожным пиджаком и плащом и даже медицинским халатом, потому что по мере того как набирала силу зима, холод становился все невыносимее, не способствуя, однако, тому, чтобы кто-нибудь простудился или заболел воспалением легких или по крайней мере решил обратиться за советом к молодому, бедному и никому не известному в городе врачу.
Но он вел себя так, будто знал, что через несколько лет превратится в уважаемого врача высшего общества, наперсника и соблазнителя утонченных дам; лишь наступление карнавала привело его в некоторое уныние, потому что он испытывал отвращение к ликованию толпы и, болезненно воспринимая чужую нелепость, не мог без неприязни видеть дикость безудержного пьянства – пагубной язвы неимущего класса и препятствия к его освобождению. Он постарался не выходить из дома в эти дни и во вторник вечером ложился спать, с облегчением предвкушая тишину пепельной среды. Он закрыл ставни, но те были неплотно подогнаны и не препятствовали проникновению холода и пьяных голосов, певших непристойные куплеты, в которых звучала единодушная издевка над доном Амадео Савойским. Против обыкновения, он долго не мог заснуть и, задремав, видел во сне карнавальные маски и темные переулки, где он бродил, мучимый голодом, преследуемый каретами, форейторами с закрытыми плащами лицами и мушкетными выстрелами, которые на самом деле были лишь отзвуком петард, взрывавшихся под его балконом на площади Толедо.
Во сне врач различил три стука, которые снова повторились в призрачной реальности, когда он открыл глаза и еще не понял, что проснулся. Он услышал, как открылась дверь в приемный кабинет, сообщавшийся с коридором: она запиралась не ключом, а задвижкой, которую легко можно было открыть снаружи. Со слабой надеждой он подумал, что его защищала еще вторая дверь – в спальню, под которой сейчас виднелась полоса света. Он услышал приближающиеся шаги и хотел вскочить с постели, чтобы закрепить бесполезную задвижку, но не шевельнулся. С другой стороны кто-то не таясь дергал дверную ручку. Он отчаянно напряг свою волю, желая, чтобы дверь не открылась, и стараясь сдержать потребность помочиться. По мере того как створка из темных досок
распахивалась перед ним, дрожащий прямоугольник света и очень высокая тень вытянулись до самого подножия кровати. Человек в бархатном плаще, излучавшем в темноте маслянистый блеск, и таком высоком цилиндре, что ему приходилось нагибаться, избегая удара о притолоку, в желтой полумаске, облегавшей, как платок, его нос и виски, и с кружевным гофрированным воротником держал в левой руке глухой фонарь, а в правой крутил что-то вроде трости или хлыста. Незнакомец не вопросительно, а утвердительно произнес: «Вы врач», – и он, приподнявшись в постели, придерживая плащ, сюртучок, пиджак и попону, чтобы те не упали на пол – со стыдливостью, с какой поддерживал бы брюки, – подумал, что где-то слышал этот голос – возможно в Мадриде – и кто бы ни был этот человек в маске, он пришел свести с ним счеты за преступление, свое участие в котором он не мог отрицать с полной уверенностью.
– Одевайтесь. Вы должны идти со мной, – сказала маска, вовсе не угрожающе и даже не повелительно, а с сухой властностью, не привыкшей к непослушанию или возражениям.
Поднявшись, не без сожаления, что незнакомец увидит, что он спал в одежде, врач обнаружил, что в другой комнате присутствовал еще кто-то – фигура, как подумал он позже, в которой было заметно ее подчиненное положение, возможно лакея или кучера, безжалостного наемного убийцы. Прежде чем ему завязали глаза, он успел заметить, что на втором человеке была не полумаска, а маска с космами и усами из пакли и надутыми картонными щеками. Врач предположил, что стал жертвой одного из тех розыгрышей, на которые так падка народная фантазия во время карнавала. Пока ему завязывали на затылке ленты полумаски с нарисованными глазами вместо прорезей, он подумал, что его собираются убить, и равнодушно вспомнил, что на приговоренных к казни на гарроте палач надевал капюшон: ему пришла на память патриотическая гравюра, изображающая расстрел Торрихоса. Человек с хлыстом – несмотря на завязанные глаза, врач понял, что это был он, по запаху лавандового мыла и мягким холодным прикосновениям складок его плаща – почти любезно взял его под руку и вывел в коридор. Врач сохранял спокойствие духа и даже остаток твердости – он никогда не был труслив, – но его колени дрожали, и он не чувствовал мускулов в ногах: если бы человек в плаще его отпустил, он покорно упал бы на землю как соломенная кукла. Он с отчаянием услышал громкий храп своей хозяйки, не однажды будивший его среди ночи, и искренне пожалел, что, если его убьют, он не сможет заплатить ей свой долг. Он спускался по узкому лестничному проему, касаясь боком стены, а впереди слышались неуклюжие шаги человека в картонной маске: мужчина в полумаске легко ступал своими ботинками, и его правая рука, сжимавшая врачу локоть, была одновременно мягкой, сильной и жестокой.