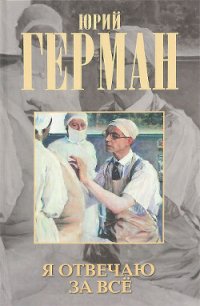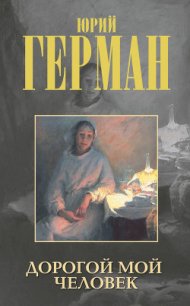Дело, которому ты служишь - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полностью txt) 📗
– О Володьке, – сказала Аглая Петровна. – Как-то он там один?
Удивительный вы народ!
А Володя между тем был вовсе не один. У него сидели подавленные и расстроенные Пыч с Огурцовым. Час тому назад на глазах обоих скончался врач городской Скорой помощи Антон Романович Микешин, тот самый, с которым Володя ездил в санитарной карете позапрошлым летом. Пыч и Огурцов дежурили во второй терапии, когда в приемный покой привезли Микешина. Он был еще в сознании, узнал обоих студентов, даже что-то пошутил, что вот, дескать, укатали сивку крутые горки, но в палате ему стало хуже, он забеспокоился, сознание спуталось, и к сумеркам милый доктор умер.
– Надо объявление дать в газету, – сказал Володя, – его весь город знал, скольким людям он помог! Верно, Пыч?
Но объявление дать оказалось не так-то просто. Во-первых, было уже поздно, и комната, в которой принимались объявления, оказалась закрытой. А во-вторых, секретарь редакции «Унчанского рабочего» – человек в толстовке, с большими ножницами в руках и почему-то очень веселый – сказал студентам, что областная газета не может сообщать о всех смертях, так же как не может радовать своих читателей сообщениями о всех родившихся на свет гражданах.
– Вы бы не острили! – угрюмо посоветовал Пыч. – Мы сюда не веселиться притащились.
– А я от природы оптимист! – сообщил секретарь. – И кроме того, знаю, что мы смертны. Так вот, дорогие товарищи, ничем не могу помочь.
Пришлось дожидаться редактора. Секретарь болтал по телефону, уходил, приходил, читал влажную газетную полосу, пил чай с бутербродом, студенты сидели на жестком диванчике, молчали. Наконец, уже совсем поздно, явился редактор – тот самый, подпись которого Володя видел каждый день: «Ответственный редактор М. С. Кушелев».
– Да, так я вас слушаю, – сказал М.С. Кушелев, когда три студента остановились перед его огромным столом.
А выслушав, помотал кудлатой головой.
– Ничем вам, товарищи, не могу помочь. Очень скорблю, но покойного Микешина не знаю.
– Микешин спас сотни человеческих жизней, если не тысячи, – загремел Володя. – Микешина знает весь город, и очень дурно, что вы, редактор газеты, не изволили его знать. Но это дело ваше – нам нужно объявление.
– Объявления не будет! – ответил М.С. Кушелев, углубляясь в чтение такой же влажной полосы, которую давеча читал секретарь редакции. – И прошу дать мне, товарищи, возможность сосредоточиться – у меня идет официальный материал.
Пришлось ехать домой к декану Павлу Сергеевичу, потом в клинику к Постникову, по квартирам – к Ганичеву, и другим профессорам, и, наконец, к Жовтяку. Геннадий Тарасович, сидя один в большой столовой, кушал из мельхиорового судка вкусно пахнущего еду, запивал ее минеральной водой и читал иностранный журнал под названием «Фарфор и фаянс». На столе, подальше от еды, Володя заметил несколько пыльных, только что, видимо, развернутых статуэток, треснувший кувшинчик, кривую тарелку и кружку.
– А, смена наша! – воскликнул Жовтяк. – Очень рад, очень рад, приветствую молодых товарищей, здравствуйте, дорогие, рассаживайтесь.
Прикрыв свою пищу сверкающей крышкой, он выдернул из кольца салфетку, обтер губы и заговорил сытым добродушным тенорком:
– Застали меня в часы редкого досуга. Как и все мы, подвержен я, ваш профессор, некоторым страстишкам. Сегодня удачный день, подвернулось кое-что – вот приволок в свою берлогу. Собираю старый фарфор и фаянс.
– Это как? – не понял туповатый в таких вопросах Пыч.
– А очень просто, коллега. Я коллекционер чистой воды. Есть, например, люди, которые собирают почтовые марки, спичечные коробки, есть – картины, бронзу, деньги...
– Это которые копят? – опять не понял Пыч.
– Нет, дорогой мой, тут страсть невинная, высокая, платоническая – собирают не деньги, а денежные знаки. Я же – фарфор и фаянс ради красоты форм, искусства, грации, непосредственности старых мастеров. Вот, например, фигурка...
Толстыми пальцами Жовтяк взял со стола маленькую, пыльную, давно не мытую статуэтку, подул на нее, посмотрел счастливыми глазами и сказал:
– Мейсенский завод, середина восемнадцатого века. Видите? Два купидончика держат подсвечник. У одного ручка отбита чуть-чуть, у купидончика, но это ничего, Право ничего. Но позы какие, а? Непосредственность? Видите, какая непосредственность?
– Вижу непосредственность! – с натугой в голосе произнес Огурцов.
– А это уже императорский фарфоровый завод – флакончик для духов. И незабудочки на нем пущены, уникальный экземпляр...
Он бы еще долго показывал свои нынешние приобретения, если бы Пыч не вытащил из кармана некролог и не протянул его Геннадию Тарасовичу. Тот мгновенно как-то скис, пожевал губами, усомнился.
– Почему, в сущности, так торжественно? Просто бы извещение, а? Микешин, Микешин... – сказал он, вспоминая, но так, видимо, и не вспомнив, кто такой был Микешин, спросил: – Где мне прикажете подписать? Последним, что ли? После доцентов?
– Можете и первым! – сурово произнес Пыч. – Вот тут, перед Павлом Сергеевичем, вполне уместится ваша подпись. Подпишите только меленько, ведь для типографии неважно, набраны будут все фамилии все равно одним шрифтом.
– Это верно! – согласился Жовтяк и стал прилаживаться пролезть со своей фамилией первым. И звание свое – профессор – он тоже поставил.
Покуда Геннадий Тарасович читал и писал, Пыч о Володей и Огурцовым оглядывали столовую – бронзу, хрусталь, застекленные шкафы и шкафчики, в которых собраны были «предметы чистой страсти» профессора – тарелки, сервизы, пастушки и старинные, голубого фарфора вазы, блюда, чашки и чашечки – золотое, синее, розовое – много всякого. Между шкафами стояли кресла и диваны, крытые старой парчой, а на стенах висели картины, писанные маслом, в золотых рамах – толстые голые женщины, красномордый монах, ангелы, порхающие в голубом небе.
– Ну, так, – сказал Геннадий Тарасович, – я тут зачеркнул слово «незаменимая», просто – «утрата». Солиднее будет.
Пыч кивнул. На улице он сердито заметил:
– Ничего себе страстишка, нахватал барахла на многие тысячи целковых. Помню, раскулачивал одного гужееда, шестнадцать коров держал, так его супруга мне толковать принялась, что он «коровок прямо таки обожает». Тоже – доктор!
Огурцов не согласился:
– Неправильно, Пыч. Он только не свое дело в жизни делает. Я вот видел в Москве такой магазин – антикварные предметы, что ли? Вот ему там торговать – это да, это по душе.
– В пользу государства? – спросил Пыч. – Мальчишка ты еще, вот кто! Страсти граждан такого типа направлены в основном на удовлетворение аппетитов своего кармана, это уж мне поверь. На черный день собирают, потому что жить ему тревожно. Не свое место ухватил, вот и беспокоится.
Некролог с «маститыми» подписями редактор М. С. Кушелев напечатал.
Хоронили Антона Романовича в теплое, совсем летнее утро. Народу было человек тридцать-сорок, не больше, а до кладбища дошли не более десятка. Миша Шервуд, Светлана, Алла Шершнева и Нюся были только на выносе, Евгений прошел полпути и уехал в город на трамвае. Дул мягкий ровный ветерок, поскрипывали немазанные оси белого старого катафалка, лошади тоже были старые, с разбитыми ногами. Рядом с Володей вышагивал бородатый кучер из Скорой помощи – Снимщиков, сердито рассказывал:
– Теперь я в Гужтрансе работаю, скорая наша исключительно на автомашины перешла. Шибко, конечно, ездиют, но вязнут тоже порядочно. Располагаю так, что если бы покойничек наш в карете ездил – жить бы ему и жить. А то автомобиль – конечно, воздух отравленный, вот и получилась для товарища Микешина последняя запятая...
Володя не слушал, смотрел на вдову Антона Романовича, как она шла за гробом – седеющая, худенькая, коротко стриженная женщина, шла не плача, прямая, даже суровая. Но у свежей могилы она вдруг ослабела, ноги ее подкосились, и молча, без стона она упала лицом в сырую землю. Студенты бросились к ней, Постников властно остановил: