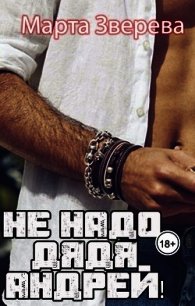Батискаф - Иванов Андрей Вячеславович (читать книги без сокращений .txt, .fb2) 📗
Ей приснилась всемирная перепись населения. В небе играло грозовое сияние. Вращалось колесо. Барахтался в собственной пене пароход. Гремел и плакал пьяный оркестр. Из дыма вынесли мебель: приоткрыв дверцу, шкаф предлагал купить с подкладки пустые вешалки, черный галстук и грязное вафельное полотенце; на попа поставленная тахта подглядывала пружиной; трюмо бредило лужей весенней листвы. Чистота и свежесть безлюдного проспекта. Из распахнутого окна под забытый скрипучий романс выплывали огромные пузыри. Повисали гроздями. Радужно переливались. Таинственно посверкивали семенем в затуманенной глубине. Мама срывала их, как плоды. От росы по ладоням бежал сок. Они были тяжелые, как те стеклянные шары — с новогодней елкой, с цветком или чьей-нибудь фотографией. Она их встряхивала, где-то в воздухе звякал бубенчик, туман внутри рассеивался, появлялось лицо. Мама улыбалась. Все таяло. Она тянулась за другим, срывала, встряхивала, смотрела, улыбалась…
Так она увидела всех…
Всех, с кем когда-то училась, работала, кому носила письма, с кем стояла в очереди, ездила в электричках и загородном автобусе на кладбище, и многих-многих других…
Градом падали птицы; стены домов становились прозрачными; очереди тянулись к терминалам; на платформах встречали люди в белом, в масках, в резиновых перчатках; по телевизору в новостях показывали распятие, к которому подводили человека, просили раскинуть руки и склонить голову набок, фотографировали, делали замеры, записывали, уводили, приглашали следующего, и следующего… а другие ждали. Платформы удлинялись. К составам подгоняли еще и еще вагоны. Людей становилось больше. Ожидание росло. Семьями выходили на улицы, с повестками и вещами, тележками, клетками с кроликами, птицами, вели коз на поводке, как собак. Всем миром заполняли бумаги, сгрудившись у стола; наводняли площади. Их увозили на автобусах, в маршрутках, грузовиках; ехали с песнями, над ними пролетали ласточки; она смотрела им вслед, птицы ее беспокоили, они множились в стеклах, стрекотали, отражались в лужах, она пыталась понять, что бы могли значить ласточки в дорогу, просыпалась, с трудом выбиралась из сна, как из пирамиды, со стрекотом в голове бродила по городу, как по лабиринту, в поисках выхода, но город не кончался, — значит, я продолжаю спать, говорила себе она, таинственно улыбаясь, и шла дальше…
Город и не собирался кончаться: он растягивался как гармошка, каждая улица давала росток сразу нескольким переулкам, этажи ползли вверх, по лестницам шли упрямые муравьи в тяжелых пальто, очках, обмахиваясь шляпами и говоря по телефону, в лифтах поднимались семьи со своей обстановкой и непрекращающимися сценами, дороги ветвились, мосты росли, мир становился запутанным, как иероглиф, он подсылал к ней странных людей, которые что-то с прищуром спрашивали, записывали в блокнотик, кому-то подмигивали; обеспокоенные ее здоровьем знакомые произносили непонятные слова и становились чужими, мир подсовывал ей непонятные вещи, которые, казалось, были созданы только затем, чтоб сбить ее с толку (вязали мысли в узлы), она старалась ни к чему не прикасаться, — в вещах таится забвение, говорила она, потому что как только она к ним прикасалась, на нее нападал сон, с которым вещь переливалась в нее. Она засыпала в самых неожиданных местах, как раньше, в детстве, она могла заснуть и в гостях, — отец брал ее на руки, как пальто, и относил домой, — проснувшись, она думала, что переместилась во сне.
В сумочке у нее: зеркальце, спички, ножницы (для самообороны), свисток. Она старалась как можно больше двигаться: ходила по домам, собирала подписи, разносила пенсии. Снежинки царапали воздух. Гололедица морочила ноги. Посылки, повестки, рекламные листки… Трамваи, троллейбусы, двери, чемодан с рекламными проспектами, тяжелый чемодан, слякоть и грязь хрустят под колесиками… Она вынимала рубашки отца, резала их, бросала в печь; брала с полок старые книги; строгала на лучины ножки стульев. Огонь занимался в печи. Она сидела на скамеечке и улыбалась; блики пламени играли в ее глазах; она светилась, как лампа, блуждали тени, и сквозь ее черты проступали лица тех, кто давно ушел, кого она давно не вспоминала, — они сидели и смотрели на огонь ее глазами, грелись, что-то шептали ее губами…
Дождь, снег, галки, пачки рекламных листков, хруст песка под колесиками сумки. Она ждала. Ходила в парк, кормила птиц. Читала, искала на рынках особенные книги (узнавала по шороху страниц — они будто шептали, и запаху — они пахли временем).
Вчера мне почудилось, что ты в городе…
Начинается: ну признайся, ты приезжал, я тебя видела…
Он! — будто чиркнули спичкой, и по стенам поползли чернильные силуэты.
Он должен быть в городе! Потому что началась всемирная перепись населения.
Пристально всматриваясь в лица прохожих; увязалась за случайным юношей, который чем-то — возможно, едва уловимым очерком в плечах и тенью на коротко остриженном затылке — напомнил ей меня (каким я был лет пятнадцать назад); ходила на вокзалы, сидела в залах ожидания, читала, с затаенной улыбкой присматривалась к прибывшим; и даже во сне она его искала, открывала большой чемодан, в котором она хранила все его тетради, альбомы, документы, перечитывала дневники… кое-что вымарывала, некоторые листки вырывала, жгла… там было так много всего… и стихи, и рисунки, фотографии и старый фотоаппарат, с которым через весь Крым… Ялта, Туапсе, Евпатория… «Чайка» болталась на моей тонкой шее — вот таким ты меня видела, с тонкой шеей?., разве была у меня шея тонкой?., он сутулился — я сутулился, сама знаешь, почему я сутулился… много фотографировал; два раза сдавали в лабораторию (один раз в Ялте, прямо на набережной — там же купили две гибкие пластинки; другой — в Севастополе). Пачка фотографий: развалины амфитеатра в Херсонесе, я между колоннами, она под колоколом, «Ласточкино гнездо», памятник затопленным кораблям, я у памятника матросу Кошке… Вдвоем у чучела оленя, — единственная цветная: в севастопольском скверике бородатый в толстых очках, у него же меняли пленку… он стоял в сквере с чучелом оленя… в убойную жару… что за бред!., надо было все уничтожить!., сжечь дом вместе с фотографиями… а там еще она нашла: тетради, записи, перфорированные карточки… надо было все сжечь!., сжечь!., с каждой строчкой делалось хуже…
Об этом лучше вспоминать у моря; смотреть далеко в море; пусть взгляд покачивается на волнах, как чайка, и он (обо мне?) — далеко-далеко; и все вокруг покачивается… избегала ходить мимо Харью, — самые отчаянные годы: мама умерла — Андрюши нет — эти раны в земле, как самое страшное… как рыхлые десны, из которых вырвали зубы… как свежие могилы… дымок в небе… черные кляксы птиц… черные платки… черно-белые фотографии…
Птицы взмывали; земля рвалась из-под ног; кругами, кругами — она смотрела им вслед, мысленно давала имена: Орфей, Тесей, Пелей, Алкей…
Прикрепляла к каждой невидимую нить. Птицы летели, она быстро шептала: Неофей, Кефей, Астерий…
Громко три раза выдохнув, отправляла со стаей свое послание, все книги, что она прочитала, все мысли, все молитвы, все слезы, все письма, что боялась писать — ему, который там…
Редкий получала ответ. Он был осторожен, писал под разными именами и на разные адреса, но она безошибочна узнавала его по-детски трогательный почерк, крупные буквы, какой бы наклон ни приняли, сердце начинало биться, и слезы вставали в глазах, — она не могла себя сдержать — сыночек-лепесточек ты мой! Прижимала к груди и уносила, читала, расшифровывая, выучивала наизусть, а потом сжигала и быстро старалась забыть, чтобы никто не подсмотрел, не подслушал мысли.
Так, следующее…
Приходили из полиции, выспрашивали; вертелись странные типы, вынюхивали; следователь кричал, требовал, чтобы что-то ему дали, чтобы я ему написала адреса знакомых Андрея, но я не знаю никаких адресов, копались в бумагах, он писал роман, тот смеялся и топтал бумаги, наступал небрежно, выворачивал ящики, выгребал из шкафов бумаги и вещи, многое побил, сумасшедший, я его испугалась, он орал на меня: «Ты блядь что дура нахуй нихуя не понимаешь что будет бля с твоим ебаным ублюдком?» Потом он взял себя в руки, начал остывать, взял стакан, попил воду из-под крана, походил по комнатам и уныло процедил: «Ну, как вы живете! Ну, что это за бардак? У вас в доме совсем порядка нету!» Я сказала, что он сам этот беспорядок только что навел. Он сел на кушетку Андрея и спросил сонно: «Где его записные книжки?» Он мне показался странно сонным. Его вдруг в сон сморило. Я подумала: сейчас он ляжет и поспит. Я бы не стала его будить. Пусть спал бы… Авось проснется человеком? Принесла ему несколько записных книжек — все, что нашла, пожалуйста. Полицейский смотрел в записные книжки сына, на лице его была маска брезгливости и раздражения, такая кошачая гримаса, вот-вот сплюнет, он читал, а там были заметки к романам и стихи, много стихов. «А где адреса, и телефоны, и имена? Он что, кроме стихов, ничего не писал?» — «Писал, — гордо сказала я, разозленная: — Прозу!» Он кинул все и с шумом пошел вон, грубиян, как мой муж, такой же нахал, такой же чурбан, как твой папаша, знай же, сын, теперь отцы твои тебя ищут, Андрей, отец твой размножился, я всегда знала, что он не был человеком, и ты мне говорил, что он умел изменять внешность, он был демоном, и это его вассалы, не убил отец нас, так эти пришли, берегись же и не возвращайся в эту страну! Прислали через три дня бумагу какую-то на эстонском, я ничего не поняла, предстоит нести расшифровывать. Кому? Ума не приложу. Опять приходил и стонал: чтобы сообщили когда и где последний раз… скажите, хоть что-нибудь… мне нужно знать… поймите, в противном случае я ничем уже помочь не —