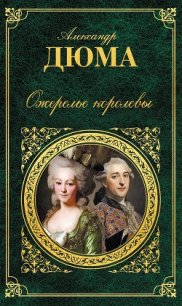Ожерелье Мадонны. По следам реальных событий - Блашкович Ласло (читаемые книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Я вдруг начинаю кашлять. Моя (и сестрина) дочь с платком на голове выглядывает в окно и нервно спрашивает, что со мной опять такое. Кошка, чей сон прерван, фыркает. Машу рукой, держась за горло. Дочка опять сливается с облаком пыли.
Я знаю, что отсюда это напоминает измятую мифологическую картину, на которой моя запоздалая, более чем сомнительная дева вверяет себя Святому Духу, но сцена весьма прозаична: сегодня девятое сентября, мои именины, придут несколько оставшихся друзей, в основном соседи, выпьем, как люди, рюмку-другую (если кто еще жив).
Пригласил и Анну, сегодня, кстати, отмечают день святых Иоакима и Анны, хотя мне известно, что она и слышать не хочет про праздник, даже в такой полупристойной шутке, ее вера запрещает любые праздники, она бы обозвала меня демоном, а шутка насчет Святого Духа довела бы ее до слез. Дух святой — безличная сила, — я так и вижу, как она распаляется, — его природа не божественна, как и Иисус вовсе не Бог… Как будто только я утверждаю, что его мать — Богородица, когда вспоминаю свою недостойную приемную дочь, на которую опускается святой прах, криком лишая ее девственности и оплодотворяя не желаемо, но безгрешно, ее, простую пьяную деваху на рождественской гулянке. (Знаю, что говорю страшные вещи, но достаточно только вспомнить о моей слабости. Кто ни простил бы меня?)
Должен сказать, что Сашино желание меня по-прежнему смущает. Оно вроде как делает меня рогоносцем, если принять во внимание все обстоятельства. Все это множество теологических вопросов может кому-то показаться агрессивным (особенно, когда их задает бывший человек, наверняка сказал бы Саша Кубурин, если бы меня услышал, особенно, когда их выбирает кающийся грешник, выпалил бы я в ответ, провалившийся кандидат во все святые), но такими вопросами обычно и занимаются такие, как я, те, что обеими ногами в могиле, с осознанием конечности своего бытия перед покровом колыбели.
Нет, он не человек из Юты, не Виннету, по горло окунувшийся в святую розовую водицу, мормонов он знает по телевизору, скажем, чаще всего он видит себя петухом в женском свинарнике (это апогей его духовности), и еще он слышал, что один наш знаменитый баскетболист — мормон. Его религиозный восторг ближе всего к ипохондрии. Если бы он хоть что-то знал, то стал бы гностиком, я уверен. Впрочем, пусть делает, что хочет. И пусть это будет единственным его законом.

Оставляю его теперь в молитве, которой он даже не осознает. Поднимаюсь наверх, к женщинам, усаживаюсь на удобном месте, в прохладной утробе подсвечника, на затвердевших слезах восковой лавы, милостью божьей ангелоподобный шпион, спокойный, как «жучок» для подслушивания. Пропустил совсем немного.
Оставшись наедине с ней, Златица видит в тетке все те мрачные черты, на которые указывал ее муж, и которые она совсем недавно решительно опровергала, и теперь всю свою горечь изливает на Анну, как бы мстя за свой недавно пережитый страх. Не предлагает ей даже присесть. Выждав немного, старуха усаживается сама. Знает порядок. Просит стакан воды.
Чего еще?
Хочу спросить про ребенка, — отвечает Анна и отколупывает ногтем воск с того подсвечника, где разместился я. Чувствую, как на меня падает восковая перхоть, маленькое детское безумие. Едва сдерживаюсь, потому что, несмотря на возраст, очень боюсь щекотки. Мои кошки знают это и топчутся на мне всю ночь. Ждем, что однажды я проснусь счастливым.
Если ребенок болен, это еще не значит, что над нами можно издеваться…
Анна молча ожидает, знает, что гнев родственницы быстро иссякнет.
Видишь, к чему все ведет, — начинает она, почувствовав, что та смягчается.
Не надо, — все слабее обороняется Златица.
Помолчи. Все знаки указывают на это… Ты думаешь, все случайно происходит? Этот мор, это безумие, мучения. Но ты дитя, радуйся этому. Все это свидетельствует о Его новом пришествии. Знай, СПИД от Бога! Думаешь, он случайно появился в последнее время, именно во время наступления новой эпохи, эры Водолея? С прежним миром покончено. Когда Иисус воскреснет, нас будет сто сорок четыре тысячи избранных. Прочих надо оставить, они погибнут в Армагеддоне, после которого Сатана опять окажется в цепях. Будь сильной, оставь пропащих. И прекрати думать о ребенке…
Свой апокалиптический монолог Анна произносит взволнованным полушепотом, как скороговорку. Одновременно дотрагивается до Златицы, то кожи, то волос, а, упомянув ребенка, с готовностью хватает за руку, которой заплаканная женщина хочет то ли перекреститься, то ли расцарапать лицо, не знаю, но и ту, и другую попытку пресекает ее наставница.
Что это? Я же сказала, что не желаю больше видеть эти картинки…
Анна перебирает детские фотографии, вынутые из выдвижного ящика, на дне которого видит и иконку Богородицы, с пятнами губной помады, покоробившуюся от высохших слез.
Ей молишься, безумная? Не знаешь, что это так же, как молиться неизвестно кому, преклонять колени перед кошкой или деревом? Разве я тебе не говорила? Слушай, давай я все это порву и выброшу, и покончим с этим… Хорошо, ребенка оставлю, хотя скоро тебе придется… Но что за языческая любовь связывает тебя с этой женщиной, какая же грешная слабость заставляет тебя целовать ее лицо, лобзать так сильно?
Не говори так, — рыдает Златица, ее руки отяжелели от слабости, так бывает у маленьких детей от щекотки.
Ты должна меня услышать. Сочувствую, но Он так пожелал. Сколько я должна тебе повторять: ребенку нельзя было делать переливание. В крови человека его душа, поэтому нельзя ее брать от другого. Лучше умереть и спастись, чем прозябать, заразившись кровью безымянного грешника, понимаешь? Иди сюда, маленькая моя, не надо вырываться…
Анна прижимает сокрушенную кузину к груди, гладит и обнимает, а потом шепчет: Пойми, наконец, это грязь, из-за него все потеряно. Оставь его! Будет у нас другой.
Замолчи, ведьма, — рыдает Златица, не в силах вырваться из ее объятий. Анна крепко держит ее и старательно кончиком языка собирает слезы с серых щек.
Я тоже глубоко тронут, задыхаюсь в своем подсвечнике и не могу воспротивиться неуместному воспоминанию об одном старинном рисунке (кажется, гравюра на металле), на котором две плачущие девушки в поцелуе делятся своим любовным отчаянием. Осмотревшись (чтобы дать им время привести себя в порядок), замечаю, что вся комната будто нарисована, и даже присутствие женщин не мешает назвать картину натюрмортом.
Забыл сказать, что в помещении, где мы в настоящий момент хлюпаем носами, смешались некоторые функциональные нюансы, оно служит нашим жильцам кухней, столовой, а также комнатой для уединенного чтения и плача. Пластмассовую детскую ванночку прислонили к двери, которая никуда не ведет. То есть, она постоянно заперта, не как те, загадочные, из готических кровавых сказок, причина проста: дверь заставлена хозяйскими вещами. Окно рядом с ней тоже ведет в похожее никуда. Стена заканчивается гладильной доской, на которой уже много дней увядает темный рентгеновский снимок.
Солнце на другой стороне, и уже сейчас можно бы зажечь свечу, но от нее остался только фитиль в затвердевшей белой лужице (я знаю это, я держусь за него), так что упомянутый поэт мог бы без особых помех, употребив небольшую гиперболу, назвать это серебряным собором. (Поэт наполовину еврей, но воткнуть сюда синагогу было бы вульгарно и ожидаемо.) Из насекомых на его портрете обнаруживаем только ночную бабочку (откуда она?), которой следовало бы прилететь на пламя свечи. Но поскольку ничего из этого здесь нет, моя метафорическая самоидентификация с ангелом с опаленными крыльями — всего лишь меланхолическая проекция. Опять же, бабочка больше подходит какому-нибудь набоковскому подростку (с разумом, помутившимся от неизрасходованного семени), здесь уместнее ожидать двух-трех одуревших мух, потому что в расползшейся целлофановой упаковке с утра дрожит кусок измученной печенки. И несколько рыбин на тарелке потихоньку начинают чувствовать свою святость…