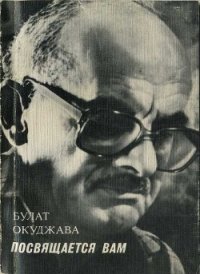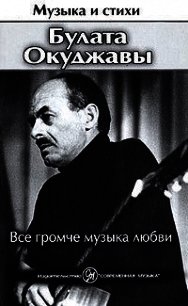Свидание с Бонапартом - Окуджава Булат Шалвович (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
Самое трудное теперь миновало, думала она, это то, отчего сохнут; теперь только не испугаться, не отступить с горделивой осанкой (не совершить ретирады), и посмотрела на серебряный колокольчик, прикорнувший на краешке стола. Теперь главное – не показать слабости, думала она… скрепляющий раствор меж кирпичами… а впрочем, вот именно, зачем скрывать? Пусть, думала она, все само собой, как есть…
– Интересно, – сказала она, глядя на него, – и Аннибал, едва взгромоздившись на опустевший трон, начал жить не по своей воле?…
– Ну вот видите, – нахмурился он, и это тоже ему шло, – стало быть, именно так… А этот был некрасив и суров (как ты, моя радость, подумала она). Окривев в Италии, стал даже страшен. Что заставляло его создавать армию шпионов, да и самому наряжаться в парик и лохмотья и не брезговать следить за подозрительными друзьями? Разбойник с повадками эллина, хорошо образованный убийца. Десять лет он распоряжался судьбами мира и внушил такой ужас римлянам, что в течение многих поколений его облик казался исчадием ада… Кстати, он тоже совершил переход через Альпы, чем заслужил всеобщее восхищение, и потерял при этом две трети войска, о чем не принято упоминать… Погиб? Он погиб оттого, что силы Карфагена не соответствовали его мировым задачам, а образованность не помогла увидеть в предшествующих примерах грозного предостережения…
– Вы имеете в виду Александра? – спросила она, разглядывая колокольчик. Она составила, как ей показалось, четкий план поведения. Ей нужно было только решиться на первый шаг.
– Нет, – сказал он, – имею в виду его отца Филиппа. Когда Эллада позвала на помощь, он обрадовался случаю явиться не поработителем, а спасителем, освободителем Фессалии. Его воины были украшены лавровыми венками, и я не удивлюсь, если историкам станет известно, что на венках были начертаны высокопарные слова о свободе и равенстве… Он не стеснялся красивых жестов, когда того требовали обстоятельства, и однажды, умерив свою кровожадность, отпустил всех пленников, одев их во все новое, а тела убитых с почестями предал земле и предложил выгодный мир. Афиняне за это поставили памятник Филиппу, и тотчас он вырезал в Фивах патриотов и установил всюду свои гарнизоны… Куда его влекло? Кто внушил ему эту губительную страсть подавлять других? И вновь, что самое ужасное, его деяния и гибель были предметом восхищения и подражания, а следовало содрогаться…
– Боюсь, – сказала Варвара учтиво, – что наша цивилизация – всего лишь маскировка того же самого, хотя Бонапарт не взял бы в жены дикарку Олимпиаду, – и засмеялась. – Неужели они все страдали одним недугом?
Он одарил ее в ответ кроткой улыбкой, говорившей о нем больше, чем пространные рассуждения о истоках мировых катастроф. Одарил и прикрыл глаза…
– Получается так, – ответил с недоумением. – И это не дурной характер или что-то в этом роде… Вероятно, то место, на которое они усаживались, было отравлено…
– Я люблю вас, – сказала она слишком громко, но, видимо, я обольщалась, считая, что крепость повержена и ее уцелевший гарнизон с барабанным боем, с развернутым знаменем выходит из ворот, чтобы сдаться мне на милость. Мне просто отворили ворота, и я получила обременительное право считать себя спасительницей цитадели, чтобы затем с почетом быть выдворенной прочь. Но стоит ли теперь, по прошествии двадцати лет, размахивать кулаками?
Сначала все было феерически прекрасно: и стремительное венчание, что отвечало нашему обоюдному желанию, и незамысловатое свадебное торжество, и поездка в Петербург, а затем в Губино… Незадолго до венчания он привез меня к своему старому отцу, прикованному к постели временным недугом. Я думала, что увижу старого Александра, а увидела небольшого толстяка с розовыми одутловатыми щеками под клетчатым английским пледом, над которым пенились кружева его сорочки. Я приготовилась к трудному свиданию, а все получилось просто и легко, и не успела я поклониться, как он сказал из своих кружев:
– Благословляю, благословляю и очень рад. Какая вы глазастая! И это кстати, ибо за Сашкой нужен глаз, – и захохотал. – С тех пор как мы остались с ним вдвоем, он отбился от рук. Он ведь весь в свою maman, a она была сурового и независимого нрава, и мне от нее частенько доставалось… Я уверен, что буду любить вас, моя дорогая.
– Я тоже, – сказала я, счастливая от такой встречи.
– Так, значит, вы, – сказал он, – намереваетесь шокировать Москву молниеносным венчанием, а затем фью-ить?… А вы знаете моего сына? Клянусь, я знаю его чуть больше, чем вы, – и вновь захохотал. – Одно пусть утешает вас: он джентльмен… А вы, значит, сирота?… Я знавал вашего деда. Крутой был человек. Ничего не разбирал, когда безумствовал, дворня ли, благородный ли, как что не по нему, тотчас по башке, пардон, или в пруду топить с камнем на шее. Да, да, а что вы думаете? Я знаю, был суд, и не в губернии, а в Петербурге. Вон куда дошло! Я однажды, моя дорогая, к деду вашему заезжал в это ваше… Губино? Губино. Ничего не помню уже, кроме Марфуши, это у вашего дедушки сенная девка была, лет ей под семьдесят было. Кривая на один глаз. «Марфуша, – спрашиваю, скидывая шинель, – отчего у тебя глазок-то кривой? Пошалила в детстве?…» А она говорит: «Это, сударь миленький, барин наш изволил собственной ручкой выколоть…» У меня челюсть отвисла, моя дорогая… А отец ваш это унаследовал? Ах, был кроток?… Ах, вы утверждаете, что через поколение? – и снова захохотал, побагровел, раскашлялся, погрозил мне пальцем. – Значит, вот вы какая?… Берегись, Александр!… – и он перекрестил нас и кивнул, отпуская. Мы пятились к дверям, а он посылал нам воздушный крест полной розовой ручкой, покуда мы не скрылись.
– Я счастлива, – сказала я, – старый король милостив!…
…Теперь, когда по лицу моему скользят невеселые тени минувших лет и здравомыслие уступает печали, Лиза спрашивает всегда невпопад, с вызовом, будто бросает в меня камень:
– Отчего же ты ушва от него? Ты же его любива! – и пожимает плечиками от негодования. Она негодует на меня не за давний мой шаг, а за попытку отмолчаться. Я отмалчиваюсь, ровно горничная, только что не шепчу дрожащими губами: «Смилостивьтесь, барыня-голубушка…» Все есть тайна, и ничего я не могу объяснить своей дочери, да, наверное, и никому… Напрасно призывать в свидетели случившееся меж нами. Беда заключалась в том, что, когда наш поединок доходил до своего апогея, тот мартовский поцелуй у Чистых прудов начинал казаться злополучным. Возводить хулу не в моих правилах, винить себя не за что. То была не моя прихоть. Придавать значение житейским мелочам, когда все уже рассыпалось и отдает злой шуткой?…
После нашего путешествия – оно было прекрасным – мы уехали в Губино, где Свечин проводил время в компании с Аннибалом и Цезарем, иногда снисходя до меня, а я занималась деревенскими трудами не покладая рук, почти убедив себя, что большей идиллии не может быть на этом белом нервном, разочарованном свете. Запах лаванды постепенно уступал аромату свежего молока и мяты.
Стоял июль. Сквозь кисею в комнату пробивались большие сизые мухи. Я вошла в кабинет. Он смотрел на меня отчужденно, поджав губы, как большой обиженный ребенок. Я хотела обнять его, но он слегка отклонился. Это меня не ранило, я умела не придавать значения житейским пустякам.
«Вам наскучило в деревне? – спросила я. – Давайте уедем. Как скажете, так и будет». – «Я все время слышу крик этой девки, наказанной вами… И это невыносимо…» – «Мой дорогой, – сказала я мягко, как могла, – ее наказали еще вчера…» – «Да, но я слышу и не могу привыкнуть». Я постаралась быть немногословной. «Не придавайте значения… Ежели вас раздражает такой пустяк, что же будет с вами в серьезном случае?» Он посмотрел на меня так, словно я совершила предательство. «А серьезный случай, – спросил он, – это когда топят в пруду с камнем на шее?… Или наше благородство годится только для московских гостиных?» Я ответила еще сдержанней, еще обстоятельнее: «Да вы же сами на нее негодовали! Вы плохо знаете деревню. Ежели не наказать, вас перестанут любить, над вами станут втихомолку потешаться. Это не мною придумано… Но если это вам так тягостно, я постараюсь не огорчать вас. Как захотите, так и будет…»