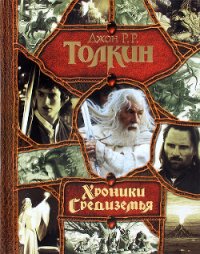Коллекционер - Фаулз Джон Роберт (бесплатные серии книг TXT) 📗
Ч.В.
Я буду обижена, растеряна, выбита из колеи, устану от ударов по самолюбию. И все равно это будет жизнь в потоке яркого света, после этой черной дыры.
Все очень просто. Он владеет тайной жизни. Вечной весной. Словно чистый родник. Вовсе не аморален.
Кажется, будто я всегда видела его в сумерках, а сейчас вдруг вижу в лучах рассвета. Он остался преж-ним, но все вокруг изменилось.
Сегодня взглянула на себя в зеркало и удивилась собственным глазам. Они постарели. Но и помолодели тоже. Когда говоришь об этом, это кажется невозможным. Но это в самом деле именно так. Я стала старше и моложе. Старше, потому что теперь я сама знаю. Моложе, потому что мое "я" в значительной мере состояло из того, чему я научилась от старших. Тяжкий груз затхлых, устаревших представлений на этом "я", словно грязь и глина, налипшие на новый ботинок.
Могущество женщины! Никогда раньше не ощущала в себе такой таинственной, необъяснимой силы. Какие же дураки мужчины.
Мы так слабы физически. Беспомощны. Даже теперь, в наши дни. Но все равно мы – сильнее. Мы можем вынести их жестокость. Они неспособны перенести нашу.
Я все думаю. Если уж так нужно, отдам Ч.В. себя. И как бы он со мной ни обращался, я останусь самой собой. Глубинная женская суть во мне останется непри-косновенной.
Все, что я здесь пишу, – дикость. Но я полна стремлений. Какой-то новой независимости.
Перестала думать о «сейчасном». О сегодняшнем. Уверена – я выберусь отсюда. Чувствую это. Не могу объяснить. Только Калибану меня никогда не осилить.
Думаю о будущих картинах.
Прошлой ночью представила себе, как напишу желтое, как сливочное масло (деревенское масло!), поле, уходящее к белому светящемуся небу, и солнце только-только встает. Странное, румяно-розовое (я очень четко представила себе это) затишье до начала всех вещей, песня жаворонка до появления жаворонка.
Два странных, противоречивых сна.
Первый совсем простой. Я гуляла где-то в поле. Не знаю с кем, только это был кто-то очень мне дорогой. Может быть, Ч.В. Солнечные лучи на зелени хлебов. И вдруг – ласточки, низко над хлебами. Мне видны были их спинки, блестевшие на солнце, словно иссиня-черный шелк. Ласточки летели очень низко, все вокруг наполнилось щебетом. Летели рядом и впереди, и сзади нас, туда же, куда шли мы, такие же радостные, счастливые. И меня охватило чувство такого счастья... Я сказала, до чего же чудесно, ты только посмотри на этих ласточек!
Все было очень просто: неизвестно откуда взявшиеся ласточки, и солнце, и зеленые хлеба. И счастье. Чистое, весеннее чувство. Тут я проснулась.
Потом – другой сон. Стою у окна на втором этаже огромного дома (в Ледимонте?), а внизу – черный конь. Он в ярости, но мне не страшно, ведь я – наверху, за окном. И вдруг – к моему ужасу – он поворачивается, скачет галопом прямо к дому и гигантским прыжком, оскалив зубы, бросается ко мне. Окно – вдребезги. А я – даже в этот ужасный миг – думаю: он разобьется, никакой опасности нет. Но он упал на спину и бьет ногами в воздухе, все ближе, ближе, ближе, а комната тесная, и я вдруг понимаю, что сейчас он забьет меня копытами насмерть. И некуда бежать. Когда я проснулась, пришлось зажечь свет.
Насилие. То, чего я больше всего боюсь.
Больше всего ненавижу.
Когда выберусь отсюда, не стану вести дневник. Это не настоящее. Здесь, под землей, он помогает мне сохранить рассудок, с ним я разговариваю по ночам. Но он подстегивает тщеславие. Пишешь то, что хочешь услышать о себе.
Забавно. Когда рисуешь, пишешь автопортрет, нет желания польстить себе. Схитрить.
Это нездоровое, болезненное стремление – копаться в себе. Патология какая-то.
Так хочется писать картины, писать все совсем иное: поля, домики где-нибудь на юге, пейзажи, огромные открытые пространства, залитые огромным открытым светом.
Именно этим я занималась сегодня. Переменчивость света: воспоминания об Испании. Охряные стены, добела обожженные солнечным светом. Крепостные стены Авилы. Дворики Кордовы. Не пытаюсь воспроизвести место. Только свет.
Fiat luх!
Снова и снова слушала записи квартета «Модерн Джаз». В их музыке совершенно нет мрака ночи, клубящихся тьмой провалов. Взрывы света, искры и сполохи, звездный блеск, а иногда – свет полдня, огромный всеобъемлющий свет, алмазные канделябры, плывущие в небесах.
5 декабря Ч.В.
Разум распят.
Разбогатевшими выскочками. Толпами «новых».
То, что говорит Ч.В., возмущает. Но не забывается. Остается в памяти навсегда. Жесткие, прочные слова, рассчитанные на долгую жизнь.
Целый день пишу небо. Просто провожу линию в нескольких сантиметрах от нижнего края. Это – земля. И больше не думаю ни о чем, кроме неба. Июньское небо. Декабрьское. Августовское. В весеннем дожде. В молниях. На заре. В сумерках. Написала уже с десяток небес. Только небо, больше ничего. Просто – линия, а над нею – небо.
Странная мысль: я бы не хотела, чтобы этого не произошло. Потому что, если выберусь отсюда, я стану совершенно иной, и надеюсь, гораздо лучше, чем раньше. Потому что, если не выберусь, если случится что-нибудь ужасное, я все равно буду знать, что та, какой я была, какой осталась бы, если бы этого не случилось, совсем не такая, какой я хочу быть теперь.
Как в стрельбе по тарелочкам. Тут уж не станешь думать, как бы не разбить да не испортить.
Калибан совсем притих. Что-то вроде перемирия.
Завтра попрошу его отвести меня наверх. Хочу посмотреть, правда ли он готовит для меня комнату.
Сегодня попросила, чтобы он меня связал и рот заклеил и дал посидеть перед открытой дверью. Не снаружи, нет, в подвале, на самой нижней ступеньке. Он согласился. Не сразу. И я могла смотреть вверх и видеть небо. Бледно-серое небо. Летящие птицы. Кажется, голуби. Слышала звуки извне. Впервые за два месяца – настоящий дневной свет. Живой свет. Я плакала.
6 декабря Ходила наверх, принимать ванну, и мы посмотрели комнату, которую я займу. Кое-что он уже сделал. Собирается поискать для меня старинное виндзорское кресло. Я это кресло ему нарисовала.
Почувствовала себя почти счастливой.
Не могу успокоиться. Не могу писать. Такое чувство, будто я почти выбралась отсюда.
Вот какой разговор позволяет мне думать, что К. более нормален, чем прежде.
М. (мы стояли в моей будущей комнате). Почему бы вам просто не позволить мне пожить здесь в качестве гостьи? Если я дам вам честное слово?
К. Даже если полсотни честных и заслуженных людей, более лучших, чем меня окружают, побожились, что вы не сбежите, я б им ни за что не поверил. Никому в мире не поверил бы.
М. Нельзя же всю жизнь никому не верить.
К. Вам никогда не понять, что значит жить в одиночестве.
М. А как, по-вашему, я живу эти два месяца?
К. Ну уж тут и спору нет – о вас там многие думают. Скучают. А обо мне... Никому никакого дела нет, жив я или давно помер.
М. А тетушка?
К. Она-то...
(Долгая пуза).
К. (вдруг у него вырвалось, может быть, против воли). Вы не знаете, что вы для меня. Вы – все, что у меня есть. Если вас не будет – не будет ничего.
(И наступило великое молчание.) 7 декабря Он купил это кресло. Принес сюда, вниз. Не хочу, чтобы оно стояло здесь. Не хочу, чтобы там, наверху, было что-нибудь отсюда. Пусть все будет совсем по-другому.
Завтра я навсегда уйду отсюда. Переберусь наверх. Вчера попросила его об этом. И он согласился. Мне не придется ждать целую неделю. Он уехал в Луис – покупать вещи для моей комнаты. Мы собираемся устроить праздничный ужин.
Последние два дня он был более приветлив, чем обычно.
Не собираюсь терять голову и пытаться бежать при первой же возможности. Разумеется, он будет следить. Не могу представить, что еще он сделает. Конечно, заколотит досками окно, запрет дверь. Но найдется какой-нибудь способ видеть дневной свет. Рано или позд-но должен представиться шанс (если К. сам, по своей воле меня не отпустит) вырваться на свет.