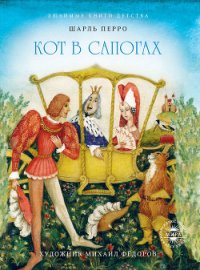Кот в сапогах, модифицированный - Белов Руслан (бесплатная регистрация книга .txt) 📗
И полетел с пригорка. Ударившись о камень, задышал.
Ожил.
Ножка ткнулась в верблюжью колючку.
Я закричал невыносимо для человеческих ушей. Покатился дальше.
Мать потеряла сознание.
Я продолжал катиться по наклонной плоскости. Докатился до норы.
Услышал вертолетное тарахтение.
Из норы выползла на полусогнутых лисица. Схватила за ногу, затащила в нору, в самую глубину.
Я вспомнил, нога вспомнила — все так и было!
Вертушка, подняв тучу песка и пыли, зависла над местом катастрофы. Над местом моего рождения.
Осев, песок и пыль скрыли следы моего рождения.
Ежов-старший выпрыгнул из вертолета, схватил жену, ринулся назад.
Они улетели.
Лиса, успокоившись, принялась меня вылизывать. Оскалилась, услышав тарахтенье — вертолет возвращался. Я заплакал. Чтобы услышали.
Вертолет вернулся за самолетом. И унес его на внешней подвеске.
Я остался.
На экране поселок в десяток юрт и кибиток. Съемки в стиле «Дней затмения» Сокурова. Облупившаяся, крашеная когда-то мелом, больница. На обрешетке чердака выцветший транспарант «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны!». Пожилой, сморщенный солнцем врач-калмык принимает Ежова младшего. Старший Ежов берет младенца на руки, счастливо улыбается. Врач-калмык, рассмотрев отошедшее детское место, что-то говорит ему по-своему — в пустыне он забыл русский язык. Бегут титры перевода: «Это второй из близнецов, был еще первый. Где он?!»
Старший Ежов, ничего не слыша, отвечает:
— Все хорошо, доктор, все отлично!
Затем, внимательно посмотрев в раскосые глаза калмыка, лезет в карман, достает новенькую пачку рублевок, сует в руки. Посерьезнев, тот отказывается. Говорит, тщательно подбирая слова:
— Ти что не понимаеш? Первый ребенка, первый ребенка, где был? Твой женщина был первый ребенка.
Если бы калмык лучше говорил по-русски, — подумал я, потершись щекой о щеку жены, — или хотя бы вспомнил слова «двойняшки» или «близнецы», жизнь моя сложилась бы по-иному. И рядом со мной сидела бы не Наталья, но Адель.
— Ты чего-нибудь понимаешь? — на экране Блад обращается к жене.
Та протягивает к нему руки, прося передать ей новорожденного. Блад передает.
— Наверное, он по растяжкам определил, что у меня до Васеньки был ребенок. Скажи ему, что он умер год назад от сепсиса, — солнечный удар стер из ее памяти мое рождение.
— Первый наш ребенок умер, — говорит калмыку старший Ежов, чернея от воспоминаний.
— А как Женя нашелся? — спросила Надежда отца, когда телекамера вернулась на лестницу с мраморными балясинами.
— Его нашли на третий день в глубокой лисьей норе. Нашли умирающим от голода и жажды. Потому он, хотя и первенец, уступает мне в габаритах.
Я увидел себя на двадцать процентов крупнее фон Блада (первенцы всегда крупнее). Росту получилось 220, весу 150. Если бы роды были штатными, быть бы мне двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту с трехпудовыми гирями.
— Кстати, — продолжал фон Блад, — ты помнишь, что почти во всех его романах героев заточали в подземельях?
— Да…
— Мой психоаналитик, когда я рассказал ему об этом факте, заявил, что все это от детских впечатлений, все из-за норы, в которой он провел первые дни своей жизни…
— Бедный дядя Женя. А кто его нашел?
— Его нашли люди, отлавливавшие всякую живность для военно-биологического института, в основном, калмыцких лис, отличающихся от прочих повышенными интеллектом и хитростью… Мне отчим Жени об этом недавно рассказал.
— Как они могли его найти? В глубокой норе? Или он попал в капкан?! — расширила глаза Надежда.
— Нет, в капкан попала лисица, его приемная мать. Люди из института ее специально ловили — она воровала у них для Жени сгущенное молоко. Лисица, конечно, могла отсидеться в норе, но тогда бы он умер.
— Но как люди из института узнали, что в норе кто-то есть?
— Попав в капкан, лисица отгрызла себе лапу. Когда люди стали снимать капкан, она выползла из норы, держа в пасти пуповину. И один врач, бывший акушер, отметил, что пуповина эта очень похожа на человеческую. Над ним стали смеяться, но один лаборант сказал, что если эта пуповина человеческая, то становиться ясным, почему лисица воровала из лагеря молоко, а не тушенку.
— А почему он не попал в местный детдом?
Я представил себя доподлинным калмыком, взращенным в Элистинском детском доме и ставшим старшим скотоводом колхоза имени Днепрогэса. Увидел Черную степь, расцвеченную маками и другой эфемерной зеленью, увидел себя, буддистки медитирующего на пригорке после привычного трудового дня, увидел десять своих ребятишек, гомоня, игравших у юрты, увидел свою единственную женщину, готовящую для меня бешбармак, невзирая на тошноту от одиннадцатого, ворочавшегося под сердцем. «Что ж, это тоже жизнь, — подумал я, вдохнув в себя чарующий запах придвинувшейся Натальи, — дай бог, реинкарнация как-нибудь мне ее явит».
— Почему он не попал в детдом? — задумчиво повторил Блад вопрос дочери. — Да потому что звероловы получили приказ срочно возвращаться с наличной добычей, и увезли Женю в Москву вместе с лисами, змеями и черепахами…
Посидев в прострации минуту, я принялся ощупывать темя и затылок в поисках трепанационных швов. Их не было, я хорошо это знал — ведь мою голову каждые два дня. Но ведь когда что-то хочешь найти, всегда находишь. Господи, что сделала со мной тетка?! Хотя… Хотя, какая разница, что сделали с твоей головой, если рядом сидит лучшая в мире девушка, нет, лучшая в мире женщина?
— Я все рано его люблю, — подумав, проговорила Надежда.
— Как дядюшку, родного дядюшку, доченька.
— Да, как родного дядюшку, пожалуй. Знаешь, мне хочется что-нибудь хорошее для него сделать. Очень хорошее. Чтобы простил чистосердечно…
— Он любит эту принцессу… — подумав, сказал фон Блад. — По-моему, безнадежно.
Белая дверь туалетной комнаты. Золотая табличка «00». Внутри — никель, фарфор, кафель, чистота.
Теодора подмывается. Жесткая натура скрытой камерой. Черное платье задрано. Струйки бьют жизнерадостно. Вода стекает с сексапильных губ, с нестриженых волос. Надежда, Адель, Наталья искоса наблюдают.
— А он ничего, — говорит Адель, принимаясь то так, то эдак рассматривать в настенном зеркале свою лебединую шею. Итальянка, конечно же, хороша с любого ракурса, но ее шея не так грациозна.
— Да… — мечтательно вытирается Теодора одноразовым полотенцем. — Я бы родила ему дюжину детишек. Растолстела бы… Эх, Морозова… — ей нравилось употреблять непонятные русские выражения.
— А как он тебе? — спрашивает Надежда Наталью.
— Никак, — ответила та, внимательно рассматривая в зеркале подбородок.
— Совсем никак?
— Я тебя не понимаю, Надя! Почему он должен быть как или никак? Лично для меня он как все. Мне несколько раз говорили, как его зовут, в том числе, и он сам, и я не запомнила. Это тебе о чем-то говорит?
— Не принц, что ли?
— Да. Не принц.
Раздраженно смяв недокуренную сигарету — нет принцев в родном отечестве, хоть плачь — Наталья бросает ее в корзину, уходит. Надежда, сжав губы, смотрит ей вслед. Оборачивается к девушкам:
— Держу пари, через несколько дней, она влюбится в него до потери сознания.
— Ты с ума сошла? — Теодора встает, одергивает платье. — Я два года его окучивала, скажи, что я хуже?
— Ты конфетка, что и говорить… Он, на мой взгляд — тоже. Но конфетки, даже очень неплохие, нужно рекламировать. Чтобы они стали еще и желанными.
— Что ставишь? — не обиделась Теодора.
— Папин красный «Феррари». Новый, в целлофане. А ты поставишь… Ты месяц не будешь худеть, идет?
— Идет, — расцвела итальянка, с незапамятных времен отказывавшая свей фигуре в отечественных макаронах.