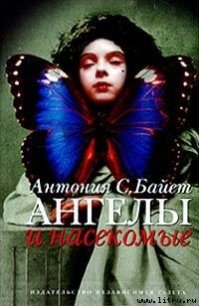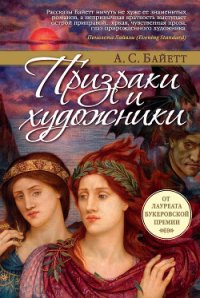Обладать - Байетт Антония С. (книги онлайн .TXT) 📗
Но вот ещё чем примечательно Ваше письмо: в нём – да простится мне вынужденная неделикатность – не обинуясь сказано, что отношения наши – отношения мужчины и женщины. Не напиши Вы этих слов, мы и дальше сколь угодно могли бы длить ни к чему не обязывающие беседы, может быть, сдабривая их невинными любезностями, как прекрасная дама и преданный рыцарь, но подчиняясь в первую очередь ничуть не предосудительному желанию поговорить об искусстве, о нашем с Вами ремесле. Мне казалось, что именно эту свободу Вы и отстаиваете. Что же тогда заставило Вас ретироваться за крепостной палисад непреодолимых условностей?
Неужели нельзя ничего поправить?
Здесь я хочу поделиться двумя наблюдениями. Первое – это что Вы ни словом ни намёком не показываете что твёрдо приняли решение прервать переписку. Вы предлагаете этот шаг в виде вопроса, больше того – готовы целиком подчиниться моему мнению: то ли это всего лишь по-женски выраженный упрёк (что может быть более mal a propos? [94] ), то ли верный снимок происходящего у Вас в душе – неуверенность, стоит ли в самом деле ставить точку.
Нет, дражайшая мисс Ла Мотт, мне не кажется, что нам (на основании приведённых Вами доводов) лучше прекратить переписку. Мне лучше не будет: я от этого бесконечно много потеряю и не смогу даже утешаться сознанием, что, отказавшись от переписки, безобидного источника живой радости и свободы, я поступил благородно или благоразумно.
Да и Вам, как мне кажется, лучше не будет. Впрочем, с уверенностью судить не берусь: я недостаточно посвящён в Ваши обстоятельства.
Я обещал поделиться двумя наблюдениями. Первое я изложил. Теперь второе. Вы пишете так – пущусь уж во все тяжкие, – будто Ваше мнение отчасти подсказано какой-то другой особой или особами. Я лишь высказываю подозрение, однако нельзя не заметить, что за Вашими строками звучит чужой голос. – Справедлива ли моя догадка? Может статься, это голос особы, имеющей куда более веские права на Вашу дружбу и доверие, чем у меня – и всё же проверьте хорошенько, правильно ли эта особа представляет истинное положение дел и не застят ли ей глаза какие-либо посторонние соображения.
Пишу, а сам никак не возьму нужный тон: всё сбиваюсь то на бранчливость, то на жалобы. Но как же стремительно Вы вошли в мою жизнь: что я буду без Вас делать – не представляю.
Мне бы хотелось прислать Вам «Сваммердама». Это хоть Вы мне позволите?
Ваш покорный слуга
Рандольф Падуб.
Любезный друг мой.
Как же мне теперь отвечать Вам? Я была резка и нелюбезна – из опасения, что у меня не станет решимости. И ещё оттого, что я лишь голос – тихий, должно быть, и слабый – голос из вихря, описать который я, по чести, не в силах.
Мне следует объясниться – хотя я и не обязана – и всё же обязана: иначе на мне будет тяготеть обвинение в чёрной неблагодарности и других преступлениях, поменьше.
Нет, право, не стоит. Эти письма – драгоценные эти письма – это так много и так мало. Но главное вот что: они нас компрометируют.
Какое холодное, безотрадное слово. Его слово, этого мира. И его дражайшей половины, этой ханжи. И всё же оно открывает путь к свободе.
Я хочу порассуждать: о свободе и несправедливости.
Несправедливость в том, что мне нужна свобода… от Вас – от того, кто чтит её всем сердцем. Ваши слова о свободе – это так великолепно, и как я могу отвернуться от…
В подтверждение – небольшая история. История позабытых мелочей, не имеющих даже названия. История нашего особнячка, Вифании, названного так с умыслом. Для Вас, как видно из Вашей чудесной поэмы, Вифания – это местечко, где Учитель некогда вернул к жизни умершего друга [95] – пока лишь его одного.
Но для нас, женщин, Вифания была местом, где мы не были ни услужающими ни услужаемыми – Бедная Марфа заботилась о большом угощении и, совсем выбившись из сил, попеняла сестре, которая сидела у ног Его, и слушала Его слово, и выбрала единое на потребу. [96] Мне, однако ж, ближе суждение Джорджа Герберта: «Кто горницу метёт, как по Твоим заветам, у тех и горница чиста и труд при этом». Мы с моей доброй приятельницей придумали устроить свою Вифанию, где всякая работа будет исполняться в духе любви, как по Его заветам. Надобно заметить, что познакомились мы с ней на одной из восхитительных лекций мистера Рескина о высоком достоинстве домашних ремёсел и личного труда. И нам захотелось устроить свою жизнь на началах Разума и делать отменные вещи. Сообразив все обстоятельства, мы разочли, что если соединим наши скудные капиталы – и станем зарабатывать уроками рисования – и продавать сказки или даже стихи, – мы сможем наладить жизнь так, чтобы гнетущий будничный труд уподобился работе художника, стал священнодействием, каким хотел видеть его мистер Рескин, и каждая из нас имела бы в этих трудах равное участие, ибо над нами не было хозяина (кроме одного лишь Господа Всех, побывавшего в Вифании истинной) и верности своей мы никому не нарушали. Тогдашняя же наша участь – судорожная дочерняя преданность матери по плоти и утончённое рабство в виде должности гувернантки – потеря небольшая: с той жизнью мы расставались радостно, терпеливо одолевая все преграды. Но нам надлежало отречься и от внешнего мира – и обычных женских надежд (а с ними и обычных женских страхов) – во имя… пожалуй что во имя Искусства – повседневной обязанности упражняться во всяких ремёслах: от выделки редкой красоты занавесей до писания картин мистического содержания, от приготовления печений с сахарными розочками до сочинения эпической «Мелюзины». Мы словно бы заключили договор – и не будем об этом больше. Такую жизнь мы себе выбрали и, поверьте, счастливы в ней безмерно – не только я.
(Я так заразилась нашей перепиской, что прямо подмывает спросить: не случалось ли Вам видеть, как мистер Рескин показывает, что такое Искусство Природы, изображая камень с прожилками, погружённый в стакан воды? Краски горят как самоцветы, перо и кисть выводят такие тонкие штрихи, а объяснения, раскрывающие истинную суть изображённого, так отчётливы, что… Я, однако, разболталась. Правильно всё-таки, что нам следует прекратить…)
Я, друг мой, выбрала себе путь и должна идти по нему, не сворачивая. Можете, если хотите, вообразить меня Владычицей Шалотта, хотя и более ограниченной – такой, которая не прельщается возможностью вдохнуть воздух полей за стенами своей башни и отправиться в челноке навстречу леденящей смерти, а предпочитает внимательно подбирать яркие шелка для узора и прилежно ткать… то, чем можно завесить ставни чтобы и щёлки не осталось.
Вы возразите, что ни на что из этого не посягаете.
Вы приведете доводы – веские доводы. Но мы успели сказать друг другу совсем немного, как уже дошли до того… обстоятельства, которое Вы назвали со всей прямотой. В глубине души я знаю: опасность – есть. Вооружитесь терпением. Будьте великодушны. Простите.
Ваш друг
Кристабель Ла Мотт.
Любезный друг мой.
Последние мои письма – словно вороны-посыльные Ноя: взвившись над хлябью вспухшей от затяжных дождей Темзы, они умчались на другой берег и канули, не принеся назад никакого признака жизни. А я так уповал на эти письма, на приложенный список «Сваммердама», на котором и чернила ещё не просохли. Я полагал, Вам следует удостовериться, что это Вы некоторым образом вызвали его к жизни, что без Вашей острой наблюдательности, без Вашего тонкого чувствования крохотных созданий не из рода человеческого мой герой вышел бы куда менее рельефным, просто сухим остовом, одетым бесформенной плотью. Ещё ни одна из моих поэм не сочинялась для определённого читателя – только для автора и его наполовину придуманного alter ego. Но Вы – иное дело: я отдаю себя на суд именно Вашей непохожести, Вашей инакости, чарующей и дразнящей. А Вы даже не можете – глупо ведь подозревать, что не смеете, – уведомить меня, что поэма доставлена по назначению: какой удар моему самолюбию, больше того – моим понятиям о дружбе.
94
Неуместно (франц.).
95
Имеется в виду евангельская история о воскрешении Лазаря (Евангелие от Иоанна, 11).
96
Евангелие от Луки, 10, 38.