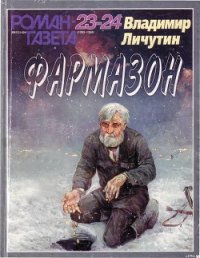Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
Тут к нему явилась Милка, голая по пояс, с отвисшими до колен тряпошными грудями и, покачивая ими над лицом Братилова, ласково пропела:
«Теперь пора, родной, теперь самое время. Чего лежишь? Вставай!» Чая увидеть себя на небесах, Алексей приоткрыл опухшие глаза. В голове раскачивались колокола, небо было все испрошито розовыми жилами и вместо облак, как на огромном кострище, плавилось жаркое уголье. Под спиною было студено, но мягко, привольно, словно лежал Братилов на копешке, запудренной снегом. Длинный овсюг, как бы отлитый из латуни, склонился над самым лицом, задумчиво кивая колосом, как над покойником. Сама природа оплакивала художника, придумывая ему скорые проводины. Порой с речной долины вскакивала ветровая струя и сдувала вороха невесомой мучицы. Братилов с усильем, почти теряя память, скосил глаза и увидел торчащие из травяного омута смуглые выпуклые колени.
– Жив, придурок? – раздался напористый голос Ротмана. В нем слышалась напускная злоба сильного человека, уже готового добить жертву. – Жалкий трус, ты осмелился бежать от возмездия. И вот тебе спица в колесницу.
И с этими словами Ротман вскинул гостя на плечо, будто куль с мукою, и, подойдя к изгороди, перекинул его на заулок в заснеженный лопушатник, как падаль. Потом, перевесившись над забором, внимательно вгляделся в унылое лицо мятежника, покачал головою и ушел в дом.
Глава двенадцатая
Они устроили девичник в комнате у Симочки, радуясь праздному вечеру и потягивая «токайское» из высоких хрустальных фужеров из сервиза «прощай, лето». Миледи с непривычки поначалу морщилась от вина, но вскоре потеряла вкус его и уже пила, как воду, залпом. Ножка у бокала была тонкая, хрупкая, обломистая, как и нынешняя судьба всякого русского, выдернутого демократами из привычной колеи.
Вчера в бане повесился сосед Володька Тараканов, и Люся помогала вынимать удавленника из петли; женщины с искренней грустью выпили за несчастного, ушедшего в мир иной в расцвете лет. Потом опрокинули за здравие родителей, за Симочку, снова помянули упокойников, за счастие в доме, за «дай Бог, чтобы все было ладно», за гайдаризацию, ельцинизацию и бурбулизацию всей страны, чтобы ни дна им, ни покрышки. И скоро пузатый бутылечек дамы прикончили и слегка осоловели.
Вино поднес в услугу Вася Лампеин, чтобы Люся вернула ему эрекцию. Он открыл мастерскую «В мир иной», дело оказалось по нынешним временам очень прибыльным, завелись деньжата, но вдруг «перестали мерзнуть ноги». (Все солдаты и зэки глубоко понимают эту грустную шутку.) «Но это же хорошо, что не мерзнут», – воскликнула наивная Миледи. «Как знать...» – Люся легко и звонко, по-девичьи рассмеялась, и на старовидное морщиноватое лицо ее на миг легли отблески былой красоты. Еще, добавила Люся, Вася Лампеин пообещался подарить дубовый гроб под бархатом, со стеклянным смотровым оконцем и с гербами, которому позавидует даже вчерашний генсек, у которого ссохлось правое полушарие и остатки мозга излились сквозь треснувшую лобовую кость. Уролог Люся знала, что говорит, ибо, по ее мнению, верхние извилины и нижние сосудцы непостижимым образом сочленялись в один тугой узел.
«Но ведь там у него ничегошеньки нет», – с придыханием прошептала Люся и звонко постучала казанками в свою черепушку. Нагнувшись, она ловко добыла из коробки, стоявшей под кроватью, бутылку «Киндзмараули», и бабы выпили за здоровье гробового мастера, бывшего президента и бывшей первой леди страны, любящей шик и золотые каблучки. (Так донесли до Слободы злые языки, любящие перемывать чужие кости.)
В приоткрытую дверь было видно, как подскакивал на черном лакированном стульчике, будто на старом костлявом одре, Григорий Семенович Фридман, и расплющенный о сиденье объемный зад его походил на диванную подушку; локти пиджака с наклеенными кожаными заплатами были оттопырены, как перебитые махалки гуся-гуменника, взлохмаченная голова тряслась, склонившись над пианино. Банкир то ловко гарцевал по клавишам, встряхивая волосами и победно оглядываясь на приоткрытую дверь, за которой пировали дамы его сердца, то галопировал, то переходил на плавную рысь, то вдруг резко чиркал оттопыренным пальцем, словно шкодливый пацан по батарее парового отопления. Банкир был счастлив, что нынче сварилось удачное дельце; взял беспроцентный кредит в банке, потом ссудил деньжатами одну лесную артель под высокий навар, и теперь «можно кушать хлеба с маслом, и даже хватит на паюсную икорку». Новые времена для башковитых наконец-то докатились и до медвежьего угла и заставили поверить в старинную сказку: лиса-патрикеевна, однажды попросившись на ночлег, не только выспалась, но и выжила мужика из своей избенки. Марксов незыблемый завет «деньги – товар – деньги» рассыпался, как карточный домик под шулерским щелчком. Оказалось, что деньги можно легко ковать из воздуха, и в глаза не видя никакого товара...
Дочь Сима, подавшись из инвалидной коляски вперед, не сводила восторженного взгляда с любимого папеньки; наверное, эта поскочливая музыка крепила жилы и позывала немедленно прянуть на ноги, не дожидаясь волхвов. Сидел же сиднем на лавке Илья Муромец аж тридцать с небольшим лет, а после не только на коня вспрыгнул, но и за палицу взялся.
– Воображает себя Луи Армстронгом, – насмешливо поддела Люся, давно смирившаяся с хворью дочери. Сощурив серые в крапинку глаза, она подпалила сигаретку и яро затянулась. – Ты своему-то, поди, каждый день барабанишь?
– Да нет. Его Гайдар оглушил, в себя никак не придет. Мы ж за квартирой собирались ехать, а денежки тю-тю. – Миледи хохотнула неведомо чему. – Не ели, не пили, в гробу спали в оленьих шкурах, а денежки, мать, накрылись поганым ведром. – Миледи запнулась, выразительно поглядела на хозяйку зелеными глазищами, словно бы мысленно выматерилась. – Знаешь, Люся, я музыку похоронила еще до гайдаризации всей страны и ельцинизации духа. Я накрыла инструмент погребальным саваном.
– А школа?
– А что школа? Там надо трень-брень. Пальцы-то еще шевелятся. Знаешь, Люся, я, дура, думала, что музыка мне заменит семью, детей, что я имею такое счастие, какое неведомо другим. Я словно бы взошла на Святую гору и осталась там жить навсегда. Ведь музыка – это царствие, которым ты владеешь самолично, и все в нем цветет и благоухает. Ведь даже печальная пиеска не мертвит душу, не убивает надежд, но будит к жизни, будоражит, как крепкое вино. Музыка плодоносит бесконечно и чарует, своим хмелем покрывая хмарь. Да что там вино, Люся! От него внутри разор, тоска, наутро голова болит, в душе полная разладица, и мозги становятся как плавленый сырок. А от музыки подобного никогда не бывает.
– И что же вдруг случилось?
– Да бабье одолело. Вошло в меня, как солдатский штык, пронзило от горла до пяток, насадило на шампур и давай терзать сердце. Так бабьего захотелось, что мочи нет. Другие семьями, дети по лавкам, мужей ждут с работы, вместе в лес, на рыбалку. Оба-два, не разлей вода. Когда и позубатятся, так скоро и схлынет ссора, как вешняя вода... И тут поняла я, что музыка – это от дьявола, блазнь, чары болотные, омут, улово, куда по младости лет прыгаешь с головою, чтобы достичь дна, и уже не выныриваешь. Это, Люся, онанизм: все в голове пылает, а в утробе мыши. Ваня меня спас. Я накрыла музыку, как жмурика, в деревянный макинтош.
«Словечки мужа. Поднабралась, – подумала Люся с неожиданной ревностью. Мысленно примерила себя к Ротману и решила, что они-то были бы пара. – Иван подмял жену под себя, как гиря. Вот она и бесится».
Люся ничем не могла помочь гостье, поноровить ей, дать каких-то надежд и потому поскорее освежила бокал, чтобы загасить в себе смутную вину. Бордовое густое питье было по цвету, как траурный бархат, и подходило под грустный случай. Оно размягчало душу и умиряло голову, не позывало на бунт; от него хотелось плакать и зевать. Бабы выпили, заели солеными сухариками; лимоны к весне в Слободу еще не подвезли, а фисташки сожрали в «шопе» гулливые девки. Да и зачем закусывать доброе вино, которое заквасили азартные южные люди, если оно само за себя говорит. Закусывают лишь чиновники, боящиеся потерять место, люди с комплексами, в каждый миг следящие за собою, больные обжорством, и сутенеры, стерегущие свою прибыльную блудню.