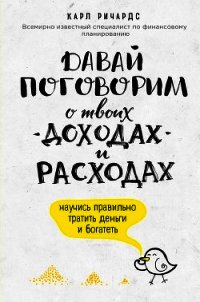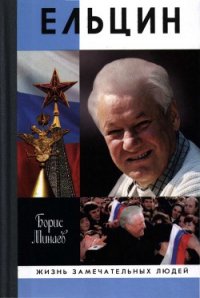Психолог, или ошибка доктора Левина - Минаев Борис Дорианович (книги хорошего качества .txt) 📗
– А я догоню… – сказал он.
Мама долго молчала.
– Что хоть у нее, какой диагноз, у этой Нины? – вдруг спросила она. – Заикается? Или что-то другое?
– Другое, – сказал он, помедлив. – Я толком не знаю, что. Но, по-моему, полная ерунда. Вполне нормальный человек.
– Ах… – отмахнулась мама. – Все вы на первый взгляд нормальные. А как копнешь поглубже… Господи, тоже нашел себе… Ладно, не хочу тебя больше видеть, иди, смотри телевизор, займись чем-нибудь. Не приставай ко мне больше с этим. Я не знаю, что мне делать. Вот честное слово, не знаю.
После этого мама говорила с ним еще два или три раза, пыталась уломать его, найти какие-то другие варианты (ну встречайся, встречайся в выходные, пригласи ее в гости, ну кто тебе запрещает, только не ломай ты все лечение, ну тебя же выгонят просто, и все, и не будет ничего, ты понимаешь, ничего?)…
Она даже кричала. И чуть-чуть плакала. Потом начинала смеяться, улыбаться, шутить… Он понял, что ситуация одновременно ее и радует, и страшно огорчает. И тупо, совершенно тупо стоял на своем. И выстоял. Теперь он понимал, что разговор с Б. 3. прошел так легко, так просто, потому что мама решила поговорить с ним первая, он даже не знал, когда она это сделала, когда пришла в отделение, ему она об этом не говорила.
А потом в отделении появились новенькие, и все как-то изменилось. Он не сразу понял – что. Новенькие вели себя как-то по-другому… Они почему-то не ходили в сад, не разбивались на парочки, не разговаривали подолгу, наедине, как предыдущая смена. То ли что-то нарушилось в самом отделении (Б. 3. ушел в отпуск), ослабло напряжение, наступил июль, мертвое, жаркое время, лето катилось к концу, танцы, правда, теперь были чуть не каждый день, но во дворе, не в актовом зале, а днем ребята сидели, сдвинув две лавочки, как в обычном, не больничном дворе, только что не курили и не пили портвейн, рассказывали анекдоты, шутили, хохотали, пели песни под гитару. Гитаристом был некий Шурик из Реутова, он все время рассказывал про свое Реутово, про веселые дела, про свою тамошнюю компанию, и Нина сидела на этой лавочке целыми днями, накинув ближе к вечеру ветровку, это была ее стихия, дворовая девчонка, тут это стало совсем понятно, она так же громко смеялась нелепым шуткам и так же тихо и внимательно слушала идиотские песни (пел Шурик плохо, коряво, объясняя тем, что он не солист, а басист, играл хорошо, но странно, в основном какие-то проигрыши, все рассказывал про свою группу, как лабают на танцах, сколько пьют перед этим и после) – и Леве было с ними очень неуютно. Но он молчал, терпел, ждал. И рано или поздно Нина уходила с ним.
Но неохотней, чем раньше. Да, неохотней.
Он ее ни о чем не спрашивал. Он не верил, что что-то может быть не так. Ведь все должно было быть хорошо, – все самое главное он сделал. Он все сделал. Как надо. Как он хотел.
И только потом, через несколько лет, закралось сомнение – жертва. А любят ли они жертвы?
Нет, она ему была очень благодарна, она была с ним нежна, но как-то уж очень, чересчур, непохоже на себя, она говорила, что он и вправду самый благородный, самый нежный, и она, наверное, его не стоит. И тут же грубила, издевалась: странный ты, Лева, очень странный, все время молчишь, а девушки любят ушами, слышал об этом, ты никогда не думал о том, что я с тобой только потому, что я здесь, что мне скучно, не думал, нет, а зря, да и ты тоже, подумаешь, страсть, в шестой больнице, лав стори, просто я единственная, кто относится к тебе как к человеку, просто я жалею тебя, мне жалко, что ты не можешь говорить, только со мной, да и со мной что-то не очень, давно уже тебя не слышала, полчаса, наверное, ну что ты смотришь, я плохая, я жестокая, да, да, я такая, ты еще не знаешь, какая я, ты ничего обо мне не знаешь, ты не знаешь, о чем я думаю, какие у меня бывают мысли во время этого дела, у тебя таких мыслей и в помине нет…
– Откуда ты знаешь, какие у меня бывают мысли? – спросил он.
– Так вот я и хочу узнать! – чуть не заорала она. – Я и хочу узнать, что у тебя там, внутри, ты только лапаешь меня, извини, только трогаешь, ласкаешь, целуешь, шепчешь, целуешь мои руки, ноги, все остальное, ползаешь на коленях, стоишь под дверью, а я хочу узнать, что ты думаешь обо мне, о нас, понимаешь? Что ты на самом деле думаешь, поговори со мной, Лева, черт тебя побери, или я не знаю, что с тобой сделаю!
– Ну сделай что-нибудь, – улыбнулся он.
– Да иди ты к черту… Я серьезно…
– А если серьезно…
И тут он произнес, наверное, самый идиотский в своей жизни монолог. Он решил говорить долго, раз она попросила, очень серьезно, и сказал, что да, она права, он не такой, как все, во-первых, потому что он заика и ни с кем, кроме нее, вообще-то в жизни не разговаривал по-настоящему, во-вторых, ему кажется, что он вообще лишний в этой жизни человек, совсем лишний, потому что ему неинтересно то, что интересно другим, он не хочет жить такой жизнью, как все, он не знает, что с собой делать, вот таким, он не знает, что его ждет, потому что будущего у него, наверное, никакого нет, что он иногда думает, что лучше бы не родился на свет, таким уродом, но вот появилась она, и что-то стало по-другому, но, видимо, это ненадолго, потому что таким людям незачем жить, и любить они тоже, наверное, не могут…
Она долго смотрела на него после того, как он все это выпалил, почему-то была красная, сдувала даже пот со лба…
– Вот черт, – сказала она. – Ну а я-то здесь при чем? Ну, ты лишний, ты не такой, а я такая. И что будем делать?
– Не знаю, – сказал он. – Тебе решать.
– Значит, мне? Ну ладно, раз так, то я и решу… А ты… Ты знаешь что, ты мне цветочков нарви пока, ладно? Вон там, на пустыре, ромашки растут. Видел?
И все пошло заново, все завертелось, они перестали считать дни, наступила дурная, неизбежная бесконечность, он уже лежал в больнице так долго, что ему стало казаться, что он останется здесь навсегда, вместе с ней, он послушно шел за ней всюду – в парк, в кино, на танцы, не отходил ни на шаг, иногда, правда, пытался играть в пинг-понг, но играл очень плохо, попробовал курить (она курила), но из этого тоже ничего не вышло, ах да, еще один раз Владимир Всеволодович, воспитатель, водил его на соревнования по легкой атлетике…
Жертва. Да. Может быть, в этом было дело – ей не хотелось его жертвы. Она ее злила.
– Почему ты сразу об этом не сказала? – спросил он Нину. Не тогда спросил, а вот сейчас, сидя на лавочке в своем дворе. – Что не хочешь жертвы, что она тебя ломает?
– Дурак ты, – ответила она коротко. – Ладно, хватит тут сидеть. Все равно ты ничего не поймешь. Во-первых, все я тебе сказала. А во-вторых… Это женщина всегда жертвует собой. Всегда, понимаешь? Да ну, все равно не поймешь. Ей не нужны твои жертвы, идиот. Ей просто нужно, чтобы ты ей что-то сказал… Сказал! Только и всего.
И исчезла. Исчезло воображаемое кафе, столик на открытой веранде, две чашки кофе на скатерти, он даже непроизвольным движением полез в карман, чтобы расплатиться за них, но уже ничего не было, не было прохладного солнечного дня, наступил вечер.
Однажды они сидели с Дашей в кафе, пили зеленый чай, и она вдруг резко спросила:
– А я не понимаю, в чем, собственно, опасность? В чем опасность того, что произошло?
Вопрос поразил его, во-первых, тем, что он возник как бы ниоткуда, ни из каких его слов (он там что-то бурчал про то, что в последнее время его мучает странная тревога, непонятно откуда взявшаяся, это был, конечно, намек – тревога связана с ней, но намек очень далекий, скользящий, а она вдруг спросила напрямик), во-вторых, своей абсолютной, разящей точностью: это был пик его внутренней паники, его неуверенности в себе, в том, что он имеет хоть какое-то право на нее смотреть, тем более вот так сидеть с ней и разговаривать, – и он ответил почти резко, обескураженно: