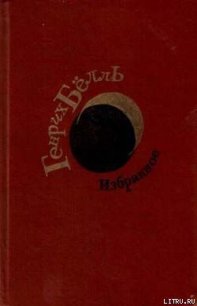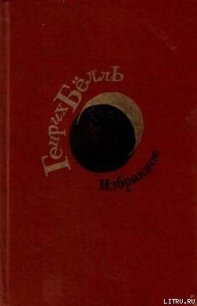Групповой портрет с дамой - Бёлль Генрих (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
Когда авт. упомянул о деятельности П. в спецроте, тот не стал увиливать от разговора, не стал ничего отрицать, но он также ничего не признал, его интерпретация этой деятельности была отвлеченно-философская. «Видите ли, я всю жизнь ненавидел бессмысленное расточительство, ненавижу его больше всего на свете; повторяю: бессмысленное… Расточительство как таковое – неплохая штука, хорошо, когда люди тратят деньги с толком и со смыслом; очень хорошо, когда они раскошеливаются и преподносят дорогие подарки и тому подобное; но бессмысленное расточительство раздражает меня ужасно… А то, что американцы проделывали в те давние времена со своими мертвецами, иначе как бессмысленным расточительством не назовешь. Когда штатники хотели перевезти, скажем, останки некоего Джимми из Бернкастля, где он в девятнадцатом году умер в госпитале, в Висконсин, то они не жалели ни денег, ни труда, ни материальных ценностей. А почему, собственно? И неужели надо было везти вместе с останками каждую золотую коронку, каждое обручальное кольцо, каждую золотую цепочку, которую покойник считал своим талисманом, – словом, каждую крупицу золота?… А теперь насчет тех денег, которые мы насобирали по бумажникам за несколько лет до этого… после битвы на Лисе или после битвы на Камбре… Неужели вы думаете, что, если бы мы не изъяли эти доллары, они ушли бы дальше командного пункта роты или батальона? И еще одно разъяснение: подлинная цена мотоцикла зависит от исторической ситуации и от платежеспособности того субъекта, который при этой исторической ситуации нуждается в мотоцикле.
О боже, разве я не доказал свое великодушие? Не доказал, что могу пожертвовать собственными интересами, когда речь идет о благополучии других людей? В нынешние времена вообще нельзя понять, в каком щекотливом положении я очутился в середине сорок четвертого. Да, я вполне сознательно, так сказать, намеренно нарушал свой гражданский долг; нарушал для того, чтобы дать возможность этим молодым людям насладиться их недолгим счастьем. Я ведь видел,. как она возложила на него руку, позже наблюдал за тем, как они постоянно исчезают вдвоем, пусть на две, три или четыре минуты; исчезали в оранжерее за мастерской, где складывали торфяные брикеты, солому, вереск и зелень всех сортов… Может вы думаете, я не замечал того, что другие, наверное, в самом деле не замечали? Не замечал, что во время воздушных налетов эта парочка исчезала иногда на час или на два? И я не только пренебрег ради них своим гражданским долгом, я еще действовал вопреки собственным интересам, вопреки моим мужским интересам. Да, я честно признаю и никогда не отрицал, что мужское начало играло в моей жизни немалую роль. Я ведь сам положил глаз на Лени, да что там положил глаз, я просто не мог оторвать от нее глаз. Даже сейчас я к ней неравнодушен, можете ей это спокойно передать… Мы, бывшие фронтовики и люди, связанные с землей, привыкли не очень-то церемониться в любовных делах; сейчас вокруг этого накрутили бог знает что, все стало сложным и необычайно тонким, а тогда мы выражались по-простому: дескать, неплохо было бы эту девицу «завалить». Я нарочно вспоминаю свой тогдашний язык и образ мыслей, хочу показать вам, что ничего не скрываю, Да, я был бы очень не прочь «завалить» Лени. Значит, я приносил жертвы не только как немецкий гражданин, не только как хозяин предприятия, не только как член нацистской партии, но и как мужчина. Вообще-то я был решительно против всяких ухаживаний, любовных связей и, так сказать, сожительств между начальником и подчиненными. Но нет правил без исключений, иногда я действовал спонтанно и… Ну да, иногда я, так сказать, шел на связь. Так мы это тоже называли. Несколько раз у меня были из-за этого неприятности, мелкие и крупные; особенно крупные неприятности были у меня с Аделью Кретен; Адель меня любила, родила мне ребенка и хотела выйти за меня замуж. Хотела, чтобы я развелся с женой и тому подобное. Но я принципиальный противник того, чтобы люди разбивали семью: я считаю, что разводы не решают проблемы. В общем, я приобрел для Адели цветочный магазин на Гогёнцоллерн-аллее и всегда заботился о ребенке. Сейчас мой Альберт отлично устроен, он учитель в реальном училище, а Адель стала на редкость практичной и живет в прекрасных условиях. Подумать только, фантазерка Адель – садовницей она стала не из материальных соображений, а, так сказать, по зову сердца, мы, профессионалы, это различаем, – так вот, фантазерка Адель, боготворившая природу и тому подобное, превратилась в рачительную, смелую и умную деловую женщину. Ну, а теперь вернемся к Борису и Лени. Уже с начала сорок четвертого я из-за них потел от страха и буквально харкал кровью… И, прошу вас, найдите человека, хоть одного человека, который докажет вам с фактами в руках, что я был тогда извергом».
Авт. признает, что никто из опрошенных свидетелей не мог с уверенностью утверждать, будто Пельцер был тогда извергом. Здесь следует, однако, раз и навсегда установить другое обстоятельство: Пельцер очень неэкономно расходовал свои запасы пота и крови. Он начал харкать кровью по крайней мере на шесть месяцев раньше времени. Пусть читатель, если желает, поставит это ему в заслугу… А теперь давайте точно воспроизведем топографию пельцеровского заведения: как раз в центре его находилась застекленная будка, контора Пельцера (будка эта еще существует, только Грундч использует ее как экспедицию – он выносит туда уже проданные горшки с цветами и украшенные рождественские елочки для могил, которые потом забирают заказчики); так вот, к трем сторонам застекленной будки, с востока, севера и юга, стена к стене, примыкали три оранжереи; таким образом, Пельцер мог зарегистрировать у себя в книгах все выросшие в оранжереях цветы (позже их регистрировал Борис). После этого цветы распределяли по трем объектам – часть из них шла на венки, часть Грундчу, который в ту пору один выполнял всю работу по уходу за старыми могилами – постоянных клиентов было тогда мало, – и, наконец, часть цветов шла в открытую или, скорее, в закрытую продажу. К западной стороне будки примыкало помещение веночной мастерской, по ширине точно такое же, как каждая из трех оранжерей; из мастерской был прямой ход и две оранжереи. Что касается Пельцера, то, находясь у себя в конторе, он мог следить буквально за каждым движением работников садоводства. Что же он видел? Он видел, что Лени и Борис выходили друг за другом якобы в туалет – туалеты для мужчин и женщин были раздельные; видел также, что они иногда удалялись в какую-нибудь из двух оранжерей.
Противовоздушная оборона на предприятии Пельцера, согласно неоднократным заявлением уполномоченного по противовоздушной обороне фон ден Дриша, была в «преступном состоянии». Ближайшее более или менее соответствующее инструкциям бомбоубежище находилось в здании конторы кладбища, примерно в двухстах пятидесяти метрах от мастерской. Далее: согласно той же инструкции, в бомбоубежище не имели доступа евреи, русские и поляки. Нетрудно догадаться, что на соблюдении этого параграфа инструкции особенно упорно настаивали Кремп, Ванфт и Шелф, Итак, возник вопрос, куда девать русского в то время, когда с неба сыпались английские и американские бомбы, которые, правда, не были предназначены этому русскому, но ненароком могли в него попасть? Впрочем, никого не беспокоило предположительное попадание бомбы в русского. Кремп выразил эту мысль так: «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» (свидетельница Кремер). Проблема заключалась совсем в другом. Кто станет охранять советского военнопленного в то время, когда немцы будут находиться в безопасности (разумеется, только в относительной безопасности)? Разве можно оставить его одного без присмотра, и тем самым дать ему шанс добиться того состояния, о котором все наслышаны, но не каждый испытал, – состояния свободы? Пельцер разрубил этот гордиев узел. Он наотрез отказался ходить в бомбоубежище, заявив, что оно «не дает ни малейшей защиты. Это просто мышеловка»; кстати, у городских властей спорное мнение это неофициально считалось бесспорным. Во время налетов Пельцер сидел у себя в конторе, зато он гарантировал, что советскому военнопленному «никак не удастся удрать на свободу. Я ведь был солдатом и сумею выполнить свой долг». Что касается Лени, то она за всю свою жизнь ни разу не переступила порога убежища или подвала (и в этом мы тоже видим сходство характеров Лени и Пельцера); Лени сказала, что будет «уходить на кладбище и ждать сигнала отбоя». Все дело кончилось тем, что «каждый из нас шел куда глаза глядят, и никакие протесты этого болвана фон ден Дрища не помогали, равно как и его письменные кляузы; эти кляузы один хороший приятель Вальтерхена клал под сукно» (Грундч). «Убежище в здании кладбищенской конторы оказалось полной липой, душегубка – и все, сплошное надувательство, обычный погреб, обмазанный пальца на два цементом; любая «зажигалка» пробила бы крышу этого погреба». Итог: при воздушных налетах в заведении Пельцера воцарялась полная анархия; работать не разрешали, надо было сторожить русского, и все сотрудники разбегались «кто куда»… Пельцер сидел в конторе – он отвечал за Бориса – без конца смотрел на часы и жаловался, что теряет драгоценное рабочее время, за которое он должен платить, хотя оно и не приносит дохода. А поскольку фон ден Дриш все время предъявлял претензии к неисправным шторам затемнения в мастерской, позже «Пельцер просто гасил свет, и весь мир погружался в тьму кромешную» (Грундч).