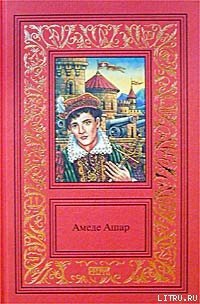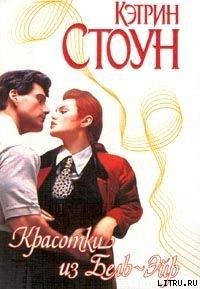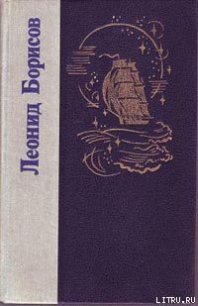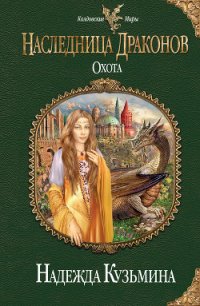Под флагом ''Катрионы'' - Борисов Леонид Ильич (книги онлайн .TXT) 📗
– Имеются ли у вас, сэр, сочинения баз подтекста? – прервал герр Шнейдер.
Стивенрону стало совестно за гостя, и он опустил голову. Ллойд шагнул к окну, Фенни тактично закашлялась. Американский консул допускал, чго вопрос его коллеги вполне здрав, кстати, но не без яда. Консул английский, наоборот, думал, что в заданном вопросе только один яд и ничего больше,
– Глубинное течение, или, что то же, подтекст, герр Шнейдер, – не поднимая головы, ответил Стивенсон, – это душа человеческой речи. В речи художника он еще и глаза.
– Не понимаю, простите, – пожал плечами герр Шнейдер. – Я человек простой. И я так понимаю, что подтекст – это просто-напросто хитрость, верно? А к чему она? Неужели нельзя быть искренним? Скажите, а в библии есть подтекст?
– Оттуда он и пошел, – поднимая голову и оживляясь, ответил Стивенсон, всем сердцем радуясь тому, что консул Германии не совсем тупой человек. – Вся библия, герр Шнейдер, держится на глубинном течении, иначе она не поддавалась бы толкованию.
– Надо будет заглянуть в эту толстую книгу, – с предельным простодушием произнес герр Шнейдер и посмотрел на часы. То же сделали и другие гости.
Спустя две-три минуты в столовой остались только хозяин и его близкие.
– Океан и тот вздохнул с облегчением! – произнес Стивенсон, прикладывая руку к груди и несколько раз вздохнув с чувством необычайного, особого удовольствия. – Не надо закрывать окно! – сказал он Фенни. – Будем сидеть и слушать океан…
– В подтексте его шума не слышится гнев, – сказал Ллойд.
– Ирония, – поправил Стивенсон. – Друзья мои, мне хочется работать!
– Спать, спать! – тоном няньки, повелительно произнесла Фенни, и Стивенсон тем же тоном трижды проговорил:
– Работать, работать, работать!
– Пиастры, пиастры, пиастры! – кстати припомнил Ллойд. Все рассмеялись. – Мой дорогой Льюис, я провожу вас до кабинета!
Ллойд зажег свечу и поднял ее над своей головой, Стивенсон обнял пасынка, и они вошли в холл, полуосвещенный призрачным светом помигивающих на небе звезд. Стивенсон с трудом передвигал ноги. Он устал от чтения и спора; ему хотелось немедленно приняться за работу, начать повествование о героях, которые действовали в романе «Похищенный», впустить в их дружную компанию еще одно лицо, на судьбе которого будет держаться всё здание нового, хорошо продуманного сочинения.
– У меня уже готово название, Ллойд, – сказал он и остановился, левой рукой опираясь о спинку кресла, стоявшего под большим портретом на стене против окна. Пламя свечи в руках Ллойда осветило часть портрета – голову человека с пышными бакенбардами и пронзительным взглядом, устремленным на каждого, кто бы ни смотрел на него. Стивенсон поднял глаза, прищурился и минуты две выдерживал взгляд сэра Томаса – знаменитого инженера, строителя маяков, высокого специалиста-оптика, отечески строго и повелительно запретившего много лет назад сыну своему Луи жениться на Кэт Драммонд. Сэр Томас и сейчас, казалось, говорил сыну, что Кэт следует забыть и не мучить себя воспоминаниями о давно прошедшем.
«А я не забыл и забыть не могу, – подумал сын, отводя взгляд от портрета отца. – Я помню Кэт, и сегодня же, минут пять спустя, начну писать о ней и новое мое сочинение назову так: „Катриона“…
– Спокойной ночи, сэр! – вслух произнес Стивенсон и поклонился изображению отца.
– Он как живой, – заметил Ллойд. – Талантливая работа! Доброй ночи, мой дорогой Льюис!
Стивенсон никак не мог найти точных фраз, которые можно было бы назвать началом романа. Кэт, воспоминания о ней, ее образ – пленительный и магически-зыбкий – стоял перед взором Стивенсона и приглашал, просил, требовал обессмертить себя. Начало не задавалось. Но Стивенсон видел Кэт, слышал ее голос, запах ее волос кружил ему голову и вызывал сердцебиение, – необходимо было сию минуту говорить о Кэт, а какая это будет строка, какая страница – не всё ли равно: напиши, потом это само ляжет в повествование, само найдет свое место. «Кэт! Кэт Драммонд!» – прошептал Стивенсон и, чувствуя себя бесконечно счастливым и способным оживлять давно умершее и забытое, написал без единой помарки:
«Девушка внезапно обернулась, и я в первый раз увидел ее лицо. Нет ничего удивительнее того действия, которое оказывает на сердце мужчины лицо молодой женщины; оно запечатлевается в нем, и кажется, будто именно этого лица и недоставало. У нее были удивительные глаза, яркие, как звезды, они, должно быть, тоже содействовали впечатлению. Но яснее всего я припоминаю ее рот, чуть-чуть открытый, когда она обернулась…»
– Кэт, жива ли ты? – прошептал Стивенсон. А рука продолжала писать:
«… Она взглянула на меня более долгим и удивленным взглядом, чем того требовала вежливость… Я часто и прежде восхищался молодыми девушками, но никогда мое восхищение не было так сильно и так внезапно…»
Совсем не хочется спать. Всю ночь, всю жизнь можно писать о Кэт. Оставить всё, что начато, – «Потерпевшие кораблекрушение», и «Берег Фалеза», и рассказы, и статьи, и письма Швобу, Киплингу, Кольвину, Бакстеру, Хэнли, – всё это подождет, успеется, но вот «Катриона» должна быть начата (о, она уже начата) и закончена прежде всего остального. Сюжет продуман, интонация найдена, мельчайшие детали видны как в лупу. Писать, писать, писать о Кэт Драммонд!
– Она будет внучкой Роб Роя, – сказал Стивенсон и улыбнулся, припомнив детство свое, юность, блуждания в горах родной Шотландии, сказки Камми, лай Пирата, ночь на маяке «Скерри-Вор», «заговор разбойников» в вагоне поезда Эдинбург – Глазго, друга своего пастуха Тодда, Хэнли на больничной койке, первую встречу с Фенни Осборн…
– «Катриону» я в состоянии написать в два месяца! Но…
Он встал и подошел к окну, вгляделся в знакомые предметы; потом взял бинокль и долго смотрел на корабли, стоящие неподалеку от берега, и почему-то вдруг припомнились строфы из какого-то стихотворения русского поэта Александра Пушкина, над переводом которого трудился один из профессоров в Эдинбургском университете; и эти строфы Стивенсон произнес вслух – устало, благоговейно и безнадежно:
Глава третья
Печальные перемены
Уродство на острове считается позором. Хромой, одноглазый, горбатый, сухорукий или просто очень толстый, страдающий неправильным обменом веществ человек изгоняется из деревни навсегда, и такому, подвергнутому остракизму человеку приходится жить у белого, которому он служит, а белому это выгодно: он сбавляет одноглазому или хромому жалованье, заставляет работать от зари до зари, пренебрежительно обращается с ним, называя его «колю» – самым презрительным именем из всех существующих для обозначения урода. «Колю» значит «гадкий, отвратительный, противный, никому не нужный».
У одного из слуг Стивенсона – статного красавца Эллино, выполнявшего обязанности повара, прачки и помощника садовника (две последние должности Эллино нес добровольно, любя утюг, волшебно разглаживающий мятое белье, и цветы, под действием некой божественной силы чудесно превращающиеся из крохотной травинки в большое разноцветное растение) – у Эллино, которым гордилась его родня и вся деревня, на шее справа вырос жировик величиной с куриное яйцо. Эллино перестал ходить к своим родным в деревню; его товарищи, служившие у Стивенсона, брезгливо морщились, работая с Эллино, обижали и оскорбляли его, называя «колю».
Эллино пришел к Стивенсону и попросил, чтобы добрый Тузитала убил его или отравил.
– Я страдаю, Тузитала, – сказал Эллино и заплакал. – Вот этот… – он толкнул пальцем в тугой, безобразивший его нарост на шее, – этот мучит меня, не дает спать, мне больно повернуть голову, мне стыдно, Тузитала, что я стал уродом! У тебя есть железная машинка, из которой вылетают черные жучки, – пусти одного жучка вот сюда, Тузитала!
Он указал на свое сердце и упал на колени.