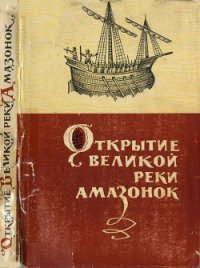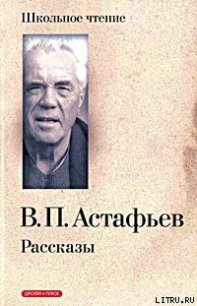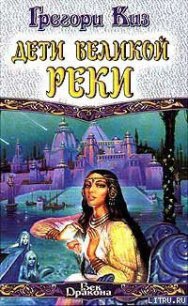Плацдарм - Астафьев Виктор Петрович (книга жизни txt) 📗
Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды.
«Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Экой я персоной сделался!» — удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшащиеся, садятся на все, что плывет по реке и расклевывают всплывших утопленников.
«Мама, моя мамочка! Один на реке, всеми брошенный… — хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, на Оби, в Шурышкарах. — О-о, Шурышкары родные, мама родимая! — где-ка вы?..»
Весла чуть постукивали. Коротко, рывками, шлепая подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пониз ошметки исходящего тумана, что-то сильно шлепнулось рядом. Лешка вздрогнул: «Неужели рыба? Неужто не все еще поглушено… Не дай Бог, человек!»
Из тумана все возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз, выбросила желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка замахнулся, чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила, стерлась, будто во сне.
Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумеречь, ударившись в камни и стволы ветел, рассыпалась за спиною. Казалось, продробили на стыке рельсов колеса и поезд подняло вверх или уволокло по реке, в мягкий туман.
Немец просыпался, начинал работать.
Для острастки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнула за лесом «катюша», отчего-то одна, прососался в тучах планирующий почтовик и, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто, зовуще проржал, будто конь в росистых лугах.
Накоротко уснувшая война продолжалась. Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, она забывалась в больном сне и вот начинает очухиваться. В тылах же враждующих армий шла и ночью напряженная работа мысли, рук, моторов: подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее, обмундирование, лекарства.
Лешку уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывшись шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Понайотов, санинструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке.
— В лодке тяжелораненый, — сказал санинструктору Лешка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. — Его сперва в тепло надо, — добавил связист и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, отвернувшись, молвил Понайотову: — Неужели некому сменить товарища майора?..
— Ты поешь сначала, поешь! — совал прямо в лицо Лешке котелок суетливый ординарец майора Ухватов, изо всех сил стараясь замять неловкость.
— Потом, потом! Как связь? — обратился он к незнакомым связистам.
— А чего связь? Связь как связь! — недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги.
— Ты, весельчак! — обращаясь к нему, скривил губы Лешка. — Знаешь хоть, куда плывешь?
— На плацдарм, говорено.
— А плавать умеешь?
— А для че нам плавать-то? На лодке, говорено.
— Нет. Все-таки?
— Не-а. Мы с Яковом в степу выросли. У нас реки нетути, — отозвался за «веселого» его напарник.
Услышав ругань санинструктора, ординарец Зарубина Ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, раззявив зубастую пасть, с подвывом зевнул.
— Чево шумите-то? — расстегнув ширинку и целясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул в камни шумной струей. — Полковник Байбаков приказал переправить связь, стал быть, без разговоров.
— Ты старший, что ли?
— Н-ну я, — заталкивая свое хозяйство в штаны, нехотя и надменно отозвался связист.
— Экая дурында! — смерил его взглядом Лешка, — поменьше будь, я б тебя самого заставил плыть в моем корыте и любимого твоего полковника рядом посадил бы… Да вот фигура-дура спасает тебя. Лодка под тобой ко дну пойдет!
— Шестаков, прекрати! — сказал Понайотов и что-то еще хотел добавить, но в это время со взваленными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой, всем, что есть на нем и в нем, мотаясь, крича: «Боийэхомать!» — примчался на берег Одинец.
— Ты чего, Шестаков? — вытаращился он на Лешку.
— Ничего. Все в порядке, товарищ капитан, — черпая из котелка кашу, — отозвался Лешка. Технически острый глаз капитана уцепил катушки корпусных связистов, с неряшливо намотанным блекленьким проводом. Брызгая слюной, гневно крича «боийэхомать!», Одинец побросал обе катушки в воду, хотел и телефон об камни трахнуть, но Яков схватил деревянную коробочку, прижал ее к груди.
— Ты че, падла?! — заорал старший команды. — Ты че, жидовская морда, делаш?
Лешка прервал дебаты, встав между начальниками, и заорал громче их, чтоб проворнее грузились, потому как совсем рассвело.
Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод к катушке, остающейся на берегу.
— Боийэхомать! Там люди умирают, — продолжал громить тыловиков Одинец, — а они явились с непригодной связью!
— Я вот полковнику Байбакову об тебе расскажу, он те, курва, покажет непригодную связь. — Оттертый от дела, не сдавался старший корпусной команды, правда, уже не так громко и напористо гневался старший, тут Лешка неожиданно наплыл на него:
— Если этот деляга уснет на телефоне, — тыкая в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился, обращаясь сразу к Понайотову и Одинцу, громко, сквозь зубы говорил Лешка, — застрелите его…
Тыловые связисты сразу сделались послушны и услужливы, пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник, по имени Ягор, вынул катушки из реки — имущество все же, казенное. Закурили. Лицо Ягора, крупно слепленное, с детства усталое, не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Леху Булдакова, но умом — куда там? Леха — это Леха!
Одинец, тыча пальцем в сторону насупленного важного гостя из корпуса, сказал, что он не доверит такому ферту важный пост, сам подежурит здесь до конца переправы связи, затем, боийэхомать, со всеми тут, как надо, разберется и до барина этого Байбакова доберется! Ишь, не соизволил на берег прибыть, сон ломать не привык, генерал Лахонин, боийэхомать, наладит ему и всем его кадрам сладкий сон.
«Дать бы этому деляге от всего воюющего фронта по морде! — никак не мог уняться Лешка, — Ах, как хочется дать по морде, да некогда». И хотя он понимал, что зря напустился на тылового увальня — у всякого свое место на войне, но ничего поделать с собой не мог. От внутреннего смятения все равно нет избыва. Где-то там, в межреберье, все сильней и удушливей теснило, сдавливало сердце, и мысль одна разъединственная, как ее ни отгоняй, все та же: не доплыть — третий раз у солдата везде роковой, и светает, так быстро светает. Эти чистые воины даже не замечают, как стремительно идет утро, как быстро светает. Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя в корму катушку, на которой плотно, ниточка к ниточке — сам Одинец работал! — была намотана красная жилка провода, катушки новые, облегченные, в свежей еще краске, провод трофейный, новый. Все так хорошо, все так ладно.
— А кто за тебя работать будет! — дохлебав кашу, взвился Лешка и вышиб из губ громилы цигарку. — Я тя, гада, все же усажу в корыто! Ты все же узнаешь, что такое война…
Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лешка оттолкнул лодку. Утлая, полузатопленная, она не отплыла, она покорно отделилась от берега. Отстраненно, из далекого далека донесло до левого берега, до хмурого Понайотова, до усмирившегося, что-то начинающего понимать деляги-связиста, до виновато сникшего Одинца, — смятый негромкий голос: