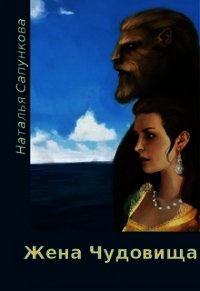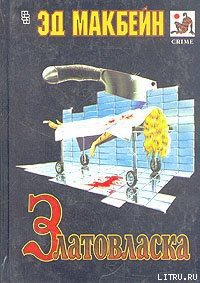Вальс с чудовищем - Славникова Ольга Александровна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
«Господи, что я делаю?» – подумал Антонов в необычайно чистом и просторном лифте, похожем из-за обилия зеркал на совершенно безъюморную комнату смеха; видимость его, возведенная в куб при помощи четырех зеркальных стен, была почти невыносимой, стоило немного повернуться, и все вокруг менялось, как в калейдоскопе, – а Наталья Львовна, заполнившая иллюзорное пространство ярко-розовым цветом своего трикотажного балахона, казалось, ничего не чувствовала и взволнованно копалась в сумке в поисках ключей. Никого не встретив, они очутились за тремя последовательными, устрашающе укрепленными дверьми, и по смутному женскому запаху ароматизированного жилья Антонов понял, что он уже на частной территории, в самом логове противника. Наталья Львовна, потянувшись за спину Антонова, включила настенный светильник: загорелся золотом угол рамы, содержавшей какую-то картину, похожую сбоку на салат из заправленных сметаной овощей. Глаза Натальи Львовны, когда она, извернувшись, припала к Антонову, сделались отчаянными, быстрый поцелуй ее был точно смазан маслом. На одной из крупных бусин позвоночника, между податливо сошедшимися лопатками, Антонов нашел и легко разомкнул деликатную застежку.
Торопясь, словно боясь потерять друг дружку в громадной квартире, они прошли через несколько непроветренных комнат. Оттого, что каждый предмет тяжеловесной прихотливой мебели – кресла как арфы, диваны как открытые рояли – имел свое неизменное утоптанное место на толстых коврах, Антонов особенно остро чувствовал собственную неуместность в этой гостиной и далее в столовой, где на углу роскошной столешницы отчего-то стояла простая эмалированная мисочка с мокрым мочалом и несколькими подгнившими ягодами черного винограда. В спальне огромная, каких Антонов и не видывал, низкая кровать была застелена атласом ледяной голубизны, на этом атласе шелковой коброй пестрел знакомый Антонову хозяйский галстук, который женщина, охнув, немедленно сбросила на пол. Антонову было стыдно – но, может, этот стыд и спас его от конфуза, вызвав прилив желания, когда разъятое платье мягко упало с зажмуренной Натальи Львовны, и он увидел, что груди у нее висят, будто вывернутые мешковины небольших карманов, что бритый колкий треугольник напоминает паленую тушку маленькой птицы, а ноги женщины непропорционально коротки для бедного тела, которым вряд ли часто прельщался ее состоятельный муж. Стараясь не обидеть женщину, Антонов был осторожен, но незнакомое тело под ним (словно Вика явилась ему из какого-то кривого зеркала) оказалось неожиданно голодным и требовало еще. Антонову, чтобы почувствовать себя другим, согрешившим человеком, было достаточно единственного ритуального раза, но женщина, казалось, уже полумертвая, дышащая со свистом, все продолжала цепляться и льнуть, – и в спальне, чинным саркофагом окружавшей сбитую постель, снова раздавалось мебельное покряхтывание, окающее бряканье какой-то фарфоровой крышечки, хриплый шепот на неизвестном языке.
Во всю эту необыкновенно черную, странно глубокую ночь (откуда-то издалека доносились переполненные собственным приятным эхом вокзальные объявления, севшие басы электровозов) Антонов и Наталья Львовна почти не спали, поддерживая силы обильной едой, безотказно выдаваемой высоким двухэтажным холодильником. Когда Антонов из более или менее обжитой спальни выбирался на территорию других, неизвестных комнат, его встречала настороженная темнота, где косого коврика света, захватившего, вместе с босыми антоновскими ногами, гнутые ноги какой-нибудь мебельной фауны, не хватало до других дверей, а зашторенное, еле видное окно висело, точно экран кинотеатра, на котором показывают ночь в тропическом лесу. В ванной, такой просторной, что было как-то стыдно пользоваться посреди аппартамента совершенно открыто стоявшим унитазом, Антонов сшиб с фигурной полки тяжеленький флакон – и мокрая тряпка, которой он пытался затереть пролившуюся лужицу густого яду, полчаса купалась в зеленоватой пене, будто в слизистых накатах океанского прибоя. Три или четыре ужина на кухне, где, наряду с посудой, располагалось почему-то очень много сентиментальных статуэток бледно-радужного фарфора, были сущим обжорством: Антонов и Наталья Львовна накладывали на хлеб подряд толстенные ломти копченой рыбы, сыра, ветчины, заедали все это плотными алыми комьями клубничного джема, пожирали щедро залитый сметаной крабовый салат, мазали в кушаньях ножами и ложками, перепачканными другой едой, свинячили в огромной вазе с фруктами, кидая туда же сливовые косточки, охвостья мягких, маслянистой манной кашей расплывавшихся груш.
По ходу своего ночного преступления Антонов с болезненным интересом изучал Наталью Львовну, хотя и понимал, что это совершенно бессмысленно в самом конце романа и не пригодится ни для какого будущего. Натягивая тесные трусики, женщина смешно поднималась на цыпочки и виляла, а делая бутерброды, склонялась ниже, чем нужно, и остро отставляла угловатую задницу – при этом почему-то казалось, что она считает про себя нарезанные ломти, удары ножа. Угловатость женщины словно говорила о каком-то увечье, физическом изъяне, хотя в чем именно заключался этот изъян, никак не удавалось определить. Пупок ее напоминал прилепленный комочек жевательной резинки, на бедре серело бледное родимое пятно, похожее на старую кляксу пролитого чаю, покрытую пылью. Иногда Антонов неожиданно задремывал (мощный снаряд качелей тупо тыкался в невидимую доску и резко тяжелел, грузнела посеребренная с изнанки древесная листва, набирали тяжести люди внизу, среди которых уже явственно угадывалось несколько статуй); раз из этой замирающей серебряной дремы Антонова вывел настойчивый толчок. Женщина, сидя боком на съехавшем атласном одеяле, показывала Антонову вязаную шапку грязно-зеленого цвета, всю в курчавых дырьях и свалявшейся паутине, сильно пахнувшую тем же самым средством от моли, которым Вика спасала свои роскошные меха. «Посмотри сюда», – таинственно сказала женщина, разворачивая шапку. Там обнаружился, к сонному удивлению Антонова, небольшой курносый револьвер, покрытый мармеладной смазкой и мелкими шерстинками. Ничего не понимая, Антонов взял увесистый предмет, показавшийся ему простым и бесполезным, как непривинченный к трубе водопроводный кран. «Если он сам не сдохнет, я его убью!» – торжественным шепотом произнесла Наталья Львовна, отбирая свою игрушку и царапая ладонь Антонова сухими острыми ногтями. Антонов недоверчиво глядел, как похорошевшая женщина, отщелкнув влево револьверный барабан, нежно кормит своего питомца золотыми плотными патронами, все равно похожими в дамских ручках на какую-то дурацкую косметику – на пробники помады, какие Антонов видывал у Вики на подзеркальнике, только эти, револьверные пробники были серыми, с очень большим содержанием свинца.
XXIII
Антонов не помнил момента, когда он по-настоящему провалился в сон; возможно, револьвер его и усыпил, поскольку был абсурден, как вещь сновидения, тут же попавшая по принадлежности. Во сне кто-то профессиональный и внимательный прикладывал револьверное дуло к голой тонкокожей груди анонимного мужчины, как врач прикладывает фонендоскоп, и все вокруг убеждали пациента, что это и есть тот самый новейший врачующий прибор, о котором он, конечно, знает из газет. И хотя этот пациент, очень белыми ребрами и анатомически странной мускулатурой напоминавший зашнурованную кроссовку, был вполне обычным представителем Антонова в его коротких, легко испарявшихся сновидениях, – сам он чувствовал, что находится не в обычном своем помещении сна, а в каком-то тесном боковом чуланчике, где прежде ночевать не приходилось. Что-то темное, дурное сторожило Антонова на выходе в реальность: он помнил, что должен немедленно проснуться и узнать какие-то новости, но все не мог стряхнуть оцепенение медлительного консилиума, где фигуры с затененными лицами и ярко освещенными руками церемонно передавали друг другу блестящие, очень холодные инструменты.
Все-таки сквозь неизвестное, загромоздившее выход из сна, до Антонова дошел знакомый, совсем домашний голос теледиктора местных новостей, и первым сигналом беды было ощущение, что кровать переставлена в большую комнату, будто во время ремонта. Чувство уязвимости человека, лежащего на переставленной мебели, чуть ли не под ногами у каких-нибудь посторонних ремонтников, тотчас сменилось осознанием, что Вика покалечена и, может быть, умрет. Застонав от ужаса и стыда, Антонов боднул огромную, будто свинья, тугобокую подушку, под брюхом которой очухался, точно ее паршивый поросенок. Осознание утраты, бывшее во сне неясным и громоздким препятствием к пробуждению, теперь, по эту сторону барьера, сделалось нестерпимо, будто Антонову только что вручили послание с известием о катастрофе, отправленное им же самим из вчерашнего дня. Все, что Антонов проделал вчера, начиная от вранья по телефону бедной теще Свете и кончая принудительной любовью с некрасивой женщиной, вовсе ему не принадлежавшей, – все, что представлялось ему логичным и оправданным некими тонкими соображениями равновесия вины, теперь, на утреннюю голову, выглядело цепью мелких подлостей, превративших Антонова неизвестно в кого. Совершенно обессиленный таким пробуждением, Антонов попытался с головой залезть под угол скользкого, чем-то прижатого одеяла, где еще ощущался сладко-соленый душок остывшего греха. Но тут в телевизоре прибавился звук, и Антонов услышал, как диктор четко произнес «Компания ЭСКО» – с интонацией, заставившей Антонова подскочить на крякнувшей кровати и выпучить глаза на резкий, словно синтетический утренний свет.