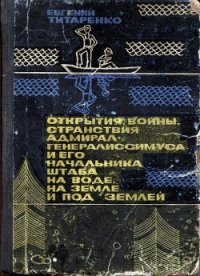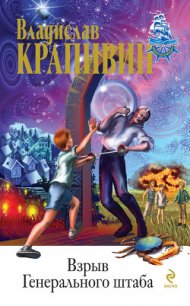В окопах Сталинграда - Некрасов Виктор Платонович (читать книги без сокращений .TXT) 📗
– Ну, готов?
– Готов.
Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Рука на животе. Ему уже ничего не нужно.
– Пошел!
– Пошел.
Снег… Воронка… Убитый… Опять снег… Валюсь на землю. И почти сразу же: «Та-та-та-та-та-та…»
– Жив?
– Жив.
Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.
Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.
Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.
– Ну – пора.
– Приготовьсь, – не подымая головы, в снег говорю я.
– Есть, – отвечает слева.
Я весь напрягаюсь. В висках стучит.
– Давай!
Отталкиваюсь. Три прыжка и – в окопе.
Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок.
Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти – девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.
Утром мы хороним товарищей – Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб.
Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.
Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.
Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.
Мы хороним товарищей над самой Волгой.
Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге – осеннее сало.
Темнеют три ямы.
Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера – сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.
Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют – сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.
И это все. Мы уходим.
Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там – у немцев.
Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые – такие, каким он сам был.
Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи – Лондон и Карнаухов.
В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него – не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.
Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.
Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрав ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.
– Судить, говорят, Абросимова будут, – мрачно говорит он.
– Кто сказал?
– Писарь Ладыгин слыхал.
– Брехун…
– Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.
– Ты что, в штабе был?
– В штабе.
– Что там?
– Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа.
– Майора не видел?
– Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.
Эх… напиться бы сейчас… До чертиков…
Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.
– Подготовься к завтраму, инженер.
Я не понимаю.
– К чему?
Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.
– К чему? – повторяю я.
Он медленно поднимает голову.
– Расскажешь того… как это все было… там, на сопке, – и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.
Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно.
Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.
– Связной его на продскладе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его – все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.
И он подмигивает наглым зеленым глазом.
– 25 -
На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона – это самое просторное помещение на нашем участке – накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза – в стенку.
Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое – начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.
– Нельзя на войне без доверия, – говорит он, – мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя…
Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.
– С Абросимовым мы прошли большой путь… Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж… Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учится, знал, что может ошибки делать, – кто из нас не ошибался, – но верить – я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба.
Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.
– Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. – Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. – Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, – это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром – по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.
– Приказано было атаковать баки… – сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. -А люди в атаку не шли…
– Врешь! – Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана. – Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло… Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев – парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты… А Абросимов что сделал?