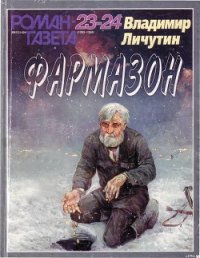Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
– Но у вас излишки площади. Вы платите за то, что вам совсем не нужно. Лишнее убивает, и эти метры, по которым вы скитаетесь в одиночестве и не можете обиходить, сведут вас в могилу. Вы от одной пыли задохнетесь иль заработаете астму. Я не шучу...
Есть силы, которые нам не подвластны, но они правят нами...
– Откуда вам знать, что мне нужно? Вы мне давали эту квартиру?.. Мне райсовет давал. – Поликушка вдруг встрепенулся, словно бы в куче сора нашел изумрудное зерно. – Совет рая дал... райский совет. – Старик расцвел, пыльные хвосты бровей вздернулись от удивления на морщинистый лоб. – Как мы жили-то, Господи! Ведь в раю, оказывается, жили. Из рая добровольно убежали, идиоты.
Поликушка уже позабыл, как лет десять попадал из коммуналки в свое особное житье, как толокся по коридорам советской чиновничьей конторы, никому не нужный, сколько слез пролила, сколько поистратила здоровья ныне покойная Клавдея, но ведь дали квартиру, да еще какую, выходящую окнами на тенистый овражек и уютную древнюю церковку, и вот она, вымоленная у Бога жилплощадь, встала у новых русских костью в горле; им хочется заселиться именно сюда и здесь оплодиться, насеять потомства.
Как надо было унизить, обнищить этих людей нынче, так надсмеяться над ними, чтобы прежняя жизнь, полная греха и теснот, когда лет сорок народ закатывали из кулька да в рогожку, гнули в крендель, отымали и запрещали, вдруг показалась земным раем. И я, уже не как психолог, но как простец-человек, выходец из деревни, понимал чувства Поликушки столь чутко и болезненно, словно бы мы были повязаны родственной пуповиной, и все мучения старика болезненно отзывались на каждом моем нерве...
– У вас излишки в метраже. А столько народу нынче нуждается в жилье, – настойчиво увещевал сотрудник ада. Он мягко улыбался, стеснительно пряча глаза в мою сторону, словно бы нашел во мне союзника.
А во мне боролись два странных чувства. То я жалел, что нет во мне бойцовского духа, пудовых кулаков и стальных зебр, чтобы прокусить горло, то вдруг проникался к нему неожиданной симпатией, старясь понять чиновника по особым, довольно неприятным поручениям, с которыми направила его мэрия по квартирам, означенным в списке черной меткою... Конечно, мафия там правила, злая сила, ожесточаясь, невольно думал я, потому что сама скверная жизнь не давала повода для внутренней умягченности, и всякие доводы тут же отвергались вчистую. И потому особенно настойчиво вглядывался в лицо чиновника, стараясь обнаружить на нем клеймо зверя, о котором столько нынче разговоров по столице, де, все они меченые, у них над ушами спрятаны рожки, в ботинках поскрипывают копытца, у них не язык, а раздвоенное жало, а в штанах прячется хвост с пушистой метелкою на конце. Словно бы из сказок Пушкина чертенок перекочевал в Первопрестольную, в самые лучшие апартаменты и перехватил власть.
У парня то ли от любострастных ночей, то ли от порочных страстей или от скуки, разбавлямой коньяком и добрым десятком чашек кофе, то ли от тайной хвори, точащей изнутри, были коричневые подглазья стойкой сеткою морщин и страдальчески сдвинутые крутые брови. Это явно был подвид либерального интеллигента, которому не хватало твердости натуры, а может, явился на смену радикалу, отвергнутому властью, новый слуга, более верткий и скрытный, подлость свою умело маскирующий в яркую праздничную обертку. Обнаженный цинизм Гайдара и Чубайса уже не срабатывал... Их облик вызывал у России зубовный скрежет и душевные муки, которые, однако, были в особенную радость новопередельцам.
– Предъявите удостоверение, – попросил я тем назидательным тоном, с каким обычно наставлял проказливых студентов.
– Уже показывал, – махнул рукою Поликушка. – Да что толку, Павел Петрович. Нынче корки можно купить в каждом метро и так подделать, что будут лучше настоящих.
– Вот мой телефон. Зайдемте к вам и позвоним...
– Не надо никуда звонить! – испугался Поликушка, затряс отвисшими щечками, как хомячок. – И там обманут. Везде шайка... Я получал квартиру в райском совете, а вы из ада министра...
Старику нравилось повторять неожиданный словесный каламбур, этим как бы смягчался душевный надрыв, с каким жил Поликушка последний год, когда стали ходить по Москве страшные слухи, что пенсионеров обманом выживают из жилья, а после убивают. Сколько было в том правды, никто не знал, но дыма без огня не бывает. Сейчас Поликушка как бы раскрыл, разоблачил жуликов, и теперь они стали не так опасны, ибо всякий черт боится ясного дня и православного креста. Поликушка нашел на разбойников управу и осмелел... Ведь не во мне он нашел защиту и прислон и не во властях, которые должны бы его укрывать от невзгод, ибо к тому они и призваны, но в простых и ясных словах, которые многое объяснили ему.
Поликушка всю жизнь просидел за рулем, он понимал лишь неполадки в моторе и ходовой части машины, и я не смог бы объяснить старику систему сбоев, которую сочинял по бездельной своей работе, но природной зоркости Поликушке хватило, чтобы различить странность в словах, что вошли в оборот при капитализме. Ведь не случайно, – подумал я, – именно эти слова угодили в постоянный докучливый оборот и стали как бы знаком, эмблемой новой Москвы... Мэр, вмэр, мара, маруха – смерть; администрация – ад, где с дьявольской легкостью закопают всякий добрый душевный порыв, если не прояснивает приварком, добытком; «администрация мэра» – вздрогнуть можно от жуткости, что сокрыта вроде бы в случайных значениях. И вот пришел к старику полномочный представитель смерти и сказал: хватит тянуть резину, немедленно собирайся, сегодня за тобой придут двое с носилками, один с лопатой...
– Побойтесь Бога!.. Что вы пристали к старику! – воскликнул я с надрывом, презирая свой истеричный голосишко, которым никогда не мог владеть в сложных обстоятельствах: что-то вдруг ломалось во мне, коверкалось, вся сила как бы сходила на нет, но не от трусости, а от гнева, который внезапно перехватывал горло. – Вы же вроде русский человек и должны понимать русские слова... Ломитесь в чужую квартиру, хватаете за горло...
– А что, на русского не похож? – что-то неуловимо переменилось в парне.
– Да, кто вас знает... В русских столько всего намешано, – смутился я.
– Вы, наверное, борец за чистоту крови. Вы черносотенец и антисемит...
Он не спрашивал, сомневаясь, но утверждал, не зная меня вовсе, он как бы сразу ставил между нами преграду, будто я был прокаженным, и явный знак лютой хвори уже проступил на моем лице.
– Ну почто же... Я просто наглости не терплю. Явился в дом чужой человек с портфелем, в котором пистолет или граната, пугает старика, доводит до инфаркта, под дулом берет дарственную на квартиру. Разве такое не случается ныне? Вы же не еврей, чтобы возмущаться. А хоть бы и еврей, так что такого я сказал обидного? Я бы никогда не посмел сказать вам, что вы жид и русофоб, потому что я у вашей люльки не стоял, обрезание не праздновал, с папой-мамой вина не пивал... Все же я профессор, человек чтимый на Москве, не Дунька с Тишинки, а ты – сопляк и мальчишка, но даже зная, что ты еврей, тем более не обозвал бы тебя жидом, потому что это не в моих правилах, я уважаю людей за их дела и душу... – Конец монолога постепенно съехал на смущенные низы.
Я говорил длинно, пылко и не давал пришельцу вставить слово, разрядить тираду; мягкая улыбка на его лице незаметно попритухла, скомкалась на губах, незваный гость не знал, как себя повести, и потому несколько потускнел, так что мне, по обыкновению, тут же стало жаль парня.
Он с удивлением, оценивающе смотрел на меня, забыв Поликушку, да и было чему изумляться: я был в материных отопках на босу ногу и в пляжном халате в зеленую полоску, похожем на больничную робу, привезенном когда-то из Болгарии. Наверное, ничто не напоминало во мне киношного профессора из огромной квартиры с Кутузовского проспекта, уставленной мебелями мореного дуба, вазами и мраморными девами с отбитыми руками и упругими сосцами, с золочеными хрустальными люстрами, натертыми паркетами и тихой безголосой домработницей Варей, робко выглядывающей из кухни в притвор двери, – того ученого дядьку с холодным холеным лицом и стылым взглядом в бархатной куртке, в хрустящей от крахмала белоснежной рубашке, которого так боятся прилежные студенты, семья и бедные соседи.