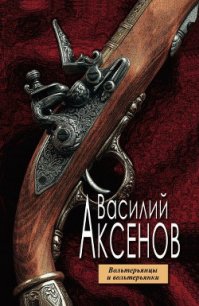Зеница ока. Вместо мемуаров - Аксёнов Василий Иванович (книги онлайн полностью .txt, .fb2) 📗
Кабинет генерала был украшен тремя портретами — козлобородого, лысого и бровастого. Висела также большая картина морского боя — пожарища на фрегатах и прочая красота. Не исключено, что парсуна была писана к годовщине Гангутской битвы, где, говорят, на гребных судах использовались прикованные чухонцы, предки нынешних гэбистов. Следует также добавить, что стены кабинета были обшиты резным дубом. Славное местечко, одним словом.
Что касается самого генерала, то о нем можно сказать даже короче, чем о его секретаре: плотный, хитрый, преуспевающий хуторянин. Полная противоположность Найману, который в этот день был бледен, как Пьеро, да еще и нервничал: не поволокут ли для начала в подвалы. Вот, казалось бы, две такие противоположные личности, как генерал Порк и поэт Найман, ну что их может свести вместе. Случай, однако, сводит и таких, и они пожимают друг другу руки.
Найману, впрочем, досталась лишь слабая часть порковской улыбки, мне чуть посильнее, основное же сияние было предназначено отсутствующему Полевому.
— Ну, как там Борис? — спросил он с ударением на первом слоге. — Ох, Борис, Борис, — тут же вздохнул он с еле промелькнувшей шаловливой улыбкой, словно они вместе по блядям ходили, что, впрочем, совсем не исключено.
— Велел вам кланяться, — сказал я.
Генерал — он, кстати сказать, тоже был в штатском, в сером добротном костюме с депутатским значком, униформа мафии, — отмахнулся большой рукой, похожей на американскую бейсбольную лапу.
— Не надо кланяться! Будем решать все вопросы в рабочем порядке. Кларксон!
С треском открылась дубовая дверь. Прежний, пастозный детина вырос на пороге и стукнул каблуками — ни дать ни взять гвардеец у Букингемского дворца. Обращали на себя внимание его ботинки, темно-желтые, вечной кожи, с металлическими обводами вокруг дырок для шнурков, какие-то особенные, кларксоновские ботинки, каких у нас не продают.
Порк что-то Кларксону энергично наговорил на угро-эстонском языке. Из всей тирады я выделил только два слова: «курат» и «томсон». Первое, я знал, означает «черт», главное ругательство этого искони не склонного к матерщине народа. Второе слово было произнесено по меньшей мере три раза, однако представляло полную загадку. Сын кота, что ли, подумал я, неуклюже переводя с английского.
Какое-то странное английское влияние чувствовалось в этом гнезде гэбистов, предателей своей родины. Найман потом признался, что он там даже испытал какое-то, почти литературное, ощущение староанглийского уюта, как будто Кларксон сейчас по приказу Порка откроет шкафчик в дубовой стене и достанет оттуда хрустальный штоф с хересом.
— Значит, так, товарищи писатели, — сказал нам генерал в завершение этой короткой сцены. — Завтра вы вылетаете на Сааремаа. На этом нашем маленьком острове, — тут он почему-то подмигнул и захохотал, может быть, потому, что считал остров и не совсем своим, и не совсем маленьким, — вас встретит наш представитель полковнйк Томсон. Он все обеспечит.
Оказавшись на улице под медленно, как всегда, увядающими эстонскими небесами, мы с некоторой неловкостью посмотрели друг на друга.
— Вот видишь, совсем не обязательно хлопотать по месту жительства, — сказал Найман. — Можно просто встретить собутыльника с письмом к начальнику тайной полиции. Вот видишь, мой друг, поэзия правит даже там, где обсирается проза.
— Ты прав, — сказал я. — Эта курва исподволь правит повсюду, иначе мы бы не оказались вместо нашей простой советской гэбухи в гнезде английского шпионажа.
Таллин, как всегда ближе к ночи, дурачил окружающую эпоху.
На следующий день мы погрузились со своими пишмашинками на «Як-12» и вылетели с разрешенной для проживания территории на запрещенную для проживания территорию. Полет продолжался что-то слишком долго для маленькой республики, мы уже стали думать, не гонит ли злоумышленник-пилот, какой-нибудь капитан Хиклби, свой самолет в Англию, как вдруг сели на зеленое поле, где паслись три козы. Единственным напоминанием об Англии здесь был яростно надутый, полосатый метеорологический чулок. От бешеного ветра он, казалось, преодолевал свои размеры. Многие знают, что так иногда бывает со штанами. Ты пытаешься их надеть на ветру, а ветер тем временем превращает их в оболочку ног очень толстого, хоть и невидимого, господина. Так было здесь и с метеорологическим чулком. Впрочем, хватит об этом.
Не успели мы осмотреть зеленое пространство, как появилось еще одно напоминание о не очень далекой Британии. В длинном черном пальто приближался высоченный полковник Томсон, КГБ ЭССР. Безошибочно угадав в нас упомянутых из центра писателей, он козырнул под поля мягкой «федоры». При значительной фигуре у него было лицо небольшой бабешки.
— Допро пошалобать нах Сааремаа, — сказал он девичьим голосом. — Сотрудники органов рады приветствовать советских писателей, больших реалистов своего дела! — Фраза была явно подготовлена.
Козы сильно парусили под ветром, но рядом с ними сильной фигурой выделялся «козел», машина полковника. Через поле между тем к нам спотыкачом приближался инвалид Второй мировой войны в аэрофлотовской фуражке.
— Комендант нашего аэропорта, — мотнул в его сторону всеми руками Томсон и, пригнувшись, добавил: — Во время войны был личным пилотом реписиониста, маршаля Тито. — Сильно подмигнул красненькими глазками под белесыми бровками. — Понимаете, топарищы?
Ловя лермонтовскую интонацию, хочу тут вставить: я немало поездил по великому Советскому Союзу, и на многих отдаленных, заброшенных аэродромах встречались мне такие багровые, приземистые, с хорошим утренним страданием в глазах и порядочным запашком изо рта инвалиды ВМВ, личные пилоты маршала Тито. Таков и этот. Фамилия его была Рыбалко. Вы, конечно, помните семью Рыбалко? Он не из них.
Пять минут езды на «козле», и вы попадаете в населенный пункт, носящий имя одного из немногочисленных коммунистических героев эстонской истории, город Кингисепп. Городишко невидный, хотя и не лишенный довольно большой гостиницы, чем-то напоминавшей буржуазный бальнеологический курорт. В ней, впрочем, не было горячей воды, а холодную приходилось сливать черпаком. Полковник Томсон пообещал нам до завтра найти квартиру в рыбоколхозном поселке, щелкнул каблуками — такая тут, очевидно, была мода среди чекистов — и отчалил.
В ресторане шел шумный пир вернувшейся из Атлантики флотилии сейнеров. Очумевшие на твердых полах матросы вместе с официантками голосили, помнится: «Сорву цветок, совью венок, пусть будет красив он и ярок!» Не успели мы развить тему, как можно свить венок из одного цветка, как нас пригласили к общему столу. Помня еще по сахалинскому путешествию, чем кончаются такие рыбацкие застолья, я все подмигивал Найману: давай, мол, линяем! Поэт не внимал. Слева на него с бутылкой наваливался дремучий рыбачина, справа батистовой кофточкой соприкасалась «приземленная» официантка, ну, скажем, Нинель. Неожиданное слияние с народом ошеломило поэта, и меня он просто не замечал. В конце концов я пошел наверх и стал засыпать, как бы покачиваемый диким воем внизу, в котором иногда слышался баритончик поэта.
Утром я увидел этого самого поэта, ну то есть упомянутого уже Наймана, жена которого по имени Эра работала тогда в древнеассирийском отделе Эрмитажа. Он благополучно похрапывал на второй койке в нашем большущем номере со вздутым линолеумом и с чугунным умывальником буржуазной работы, куда, по всей вероятности, отливало не одно поколение командировочных. Он спал, чуть-чуть сильно вздрагивая, но, оттрепетав, был тих. Одеяло большой кучей, принявшей почему-то форму куры, лежало на полу. Рядом, сущим котом, свернулись брюки поэта.
В дверь уже скреблась грешная Нинель.
— Мальчики, спасайтесь, пока не поздно!
Позвольте, грешная Нинель, хотелось сказать мне, почему ваш призыв к спасению вы адресуете в плюрале? Не успел я этого произнести, как длинноносенькая и слегка пупырчатая Коломбина была отодвинута сильной рукой и в номер вошел полковник Томсон.