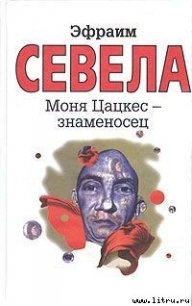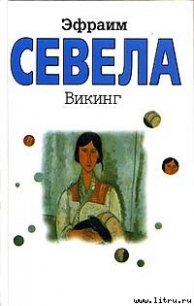Попугай, говорящий на идиш - Севела Эфраим (е книги .TXT) 📗
Среди зевак слышался шепоток:
— Иностранка! Инфаркт! Прямо в ресторане.
— Она? — догадался Костя.
Я быстро пошел прочь. Туда, где кончалась ножная и пыльная дорога вилась вверх, между домик и кипарисами.
Костя, тяжело дыша, нагнал меня. Пошел рядом.
Мы молчали. Нам, немолодым, крутой подъем был нелегок, и мы дышали с ним как загнанные лошади. Потом, уж где-то высоко над Ялтой, откуда виден был весь залив и длинный бетонный пирс возле порта, с белым огромным теплоходом, застывшим на голубом стекле моря, мы остановились, потому что совсем выбились из сил. Видна была набережная и зеленая крыша гостиницы «Ореанда». Толпы уже не было. Как и не было автомобиля «Скорой помощи».
— Ты-то тут при чем? — пытался утешить меня Костя.
Я ничего не ответил. Смотрел бездумно, как оглушенный, по сторонам.
Кругом захлебывалась в цвету крымская земля. Каждый камень был усеян лепестками. Лиловыми. Голубыми. Алыми, как кровь. И дремотный нагретый воздух, приторно-сладкий, пропитанный запахами, был удушающе тяжел, какой бывает после боя, когда долго не убирают трупы и они начинают пухнуть и разлагаться.
— Эхо войны, — философски произнес Костя. Горное эхо не откликнулось, не повторило его слов.
Горы молчали, нависая над нами. И совсем высоко, как набухшая слеза, посверкивала на солнце снежная голова Ай-Петри.
СУДНЫЙ ДЕНЬ
Еще с вечера Луис Розенвассер сказал своим постояльцам, что завтра он в них не нуждается, все свободны и могут заняться чем вздумают, потому что завтра Йом-Кипур, Судный день, и хоть он в Бога не верует, но работать в такой день не рискнет: не приведи Господь, прослышит об этом кто-нибудь из евреев-заказчиков, и создадут такую репутацию, что ломаного гроша потом не заработаешь. Да и вообще еврею, каким бы он ни был, пристойней в этот день если не поститься, то хотя бы ничего не делать, сократив грех до позволительного минимума.
Дан Бен-Давид был знаком с Луисом уже с полгода, примерно с того дня, как он прилетел из Израиля в Нью-Йорк, имея в паспорте туристскую визу сроком на один месяц и острое желание зацепиться за Америку любым путем и не возвращаться назад. Срок визы давно истек, пять месяцев Дан жил в Нью-Йорке нелегально. Поэтому держался за Луиса. Тот хоть и обсчитывал изрядно, но давал безопасный кров и работу, на которой не разживешься, но и с голоду не умрешь. Если бы не Луис, Дану пришлось бы возвращаться с пустыми руками, истратив последние деньги на дорогу в оба конца.
Иностранцу с просроченной визой трудно подыскать работу в Нью-Йорке. Кто станет связываться с таким, чтоб потом нажить неприятности с полицией? Одна надежда была на евреев. Но нью-йоркские евреи обожают своего брата израильтянина, когда он живет в Израиле и выигрывает войны, что доставляет им неслыханную радость. Но когда он убежал из Израиля и хочет стать таким же, как они, — издалека обожать свою родину, они дружно поворачиваются к нему спиной и даже не хотят смотреть в его сторону. Он оскорбляет их лучшие чувства.
Луис Розенвассер отличается от таких евреев тем, что он сам когда-то, еще до того, как Дан родился, сбежал из Израиля, называвшегося тогда Палестиной.
Сбежал, когда там шла Война за независимость, и у него, если верить ему, были на то свои политические причины. Поэтому Луис не испытывал никакой враждебности к таким парням, как Дан. Наоборот, это подчеркивало еще раз, что он был прав, покинув еще в 1948 году берега Палестины. И он брал их без документов на работу, платил им не чеками, а наличными и за совсем небольшую плату позволял жить в своем доме.
Что это был за дом-это другой вопрос. Таких трущоб Дан и в Тель-Авиве не видал. Дом стоял в жуткой дыре в Бруклине, и слева, и справа от него, и напротив, через улицу, на несколько блоков тянулись такие же трехэтажные дома, некогда окрашенные в бордовые и черные цвета, но теперь облупившиеся до кирпичей, с пустыми выбитыми окнами без рам и без входных дверей. Все эти дома были давно покинуты, необитаемы. Все, что можно унести, с них ободрали. Когда поднимался ветер, начинался такой концерт, хоть уши затыкай: гремели листы кровельного железа, свистела провисшая проволока, жалобно скрипела забытая под потолком люстра. По ночам в них не светилось ни единого огня, и одному пробегать такую улицу было довольно страшно.
Светились окна только у Луиса Розенвассера. На втором и третьем этаже. Первый стоял пустым, и окна его были наглухо забиты листовым железом от воров. Луис располагался наверху. Второй этаж был в распоряжении квартирантов, которые одновременно работали на Луиса. Теперь их осталось двое. Месяц назад Луису удалось избавиться от третьего постояльца, вечно пьяного парня откуда-то из Алабамы. Он говорил с таким южным акцентом, а кроме того, у него были выбиты все передние зубы, так что понять его даже Луис порой не мог. Парень, когда протрезвлялся, был золотым работником, все горело у него в руках, и никогда не спорил, получая плату. Но он протрезвлялся все реже и реже, и полиция несколько раз напоминала Луису, чтоб больше не держал у себя этого бродягу.
Дан платил всего двадцать долларов в неделю за жилье — смехотворную цену по нью-йоркским масштабам — и имел за это кровать с хорошим матрасом, продавленное кресло и шкаф, где висели и лежали его вещи. Кроме того, он мог пользоваться кухней, большой и захламленной, и не платить отдельно за газ и электричество.
Второй постоялец имел свою комнату рядом, но с согласия Дана перетащил к нему свою кровать и тумбочку, и они зажили вдвоем. Он тоже был из Израиля, и они могли разговаривать всласть на иврите, отдыхая хоть на время от необходимости мучительно подбирать английские слова. Он был сверстником Дана из Назарета, города в Галилее, и звали его Махмуд. Махмуд был арабом. Израильским арабом. В Назарете живут арабы-христиане. Иврит он знал лучше, чем арабский язык. И Дану он был ближе и понятней, чем нью-йоркский еврей.
Махмуд родился уже после создания Израиля и поэтому своей родиной считал не Палестину, как другие арабы, а Израиль. За это кое-кто из соплеменников косился на него и нехорошо качал головой. С другой стороны, как араб он не чувствовал себя в стране на все сто процентов дома. Подрос. Еврейских мальчишек, с кем раньше гонял мяч, взяли в армию. Его — нет. Не доверяют, следовательно. Взорвется на базаре подложенная террористами бомба, полиция начинает хватать всех подряд арабов. Несколько раз замели и Махмуда, только потому, что ему случилось быть поблизости. И даже по шее дали. А что будет дальше? Одному Богу известно. Махмуд попрощался с родными, и вот он живет нелегально в Нью-Йорке у Луиса и дает ему эксплуатировать себя до поры до времени, пока ему не удастся сделать себе хорошие документы и больше — не быть нелегальным иммигрантом.
Дан покинул Израиль по другой причине. Он-то служил в армии, танкистом. И служил слишком долго. Сначала положенный срок, а потом снова призвали из-за войны, и он побывал даже в Египте, на той стороне Суэцкого канала. Затем долго лежал в госпитале. Вот и вся молодость прошла. А хочешь купить автомобиль — даже не подступайся. С израильскими налогами это по карману только богачу, или правительственному чиновнику, или вору. А здесь на второй месяц он купил подержанный пикап всего за двести долларов. Чуть подтянул его, кое-что поменял, ведь он — танкист и в машинах толк знает, сейчас ходит, как новенький. Вот только бы грин-карту достать, сделаться легальным, и тогда он заживет как человек и навсегда попрощается с Луисом, чтоб больше и не вспоминать о нем.
Луис был по-своему добрым человеком, хотя обсчитывал нещадно, что, впрочем, не намного делало его состоятельней. Вот эти три этажа полуразваленного дома на мертвой, покинутой даже неграми улице. И визитная карточка, где он назвал себя генеральным подрядчиком и, кроме домашнего, указал несуществующий служебный телефон. Вернее, существующий, но не его. Это телефон маленькой конторы одного еврея, секретарша которого согласилась за небольшую плату отвечать на звонки, адресованные визитной карточкой ему, Луису Розенвассеру, и по вечерам звонить ему домой, чтоб сообщить, кто искал его в течение дня.