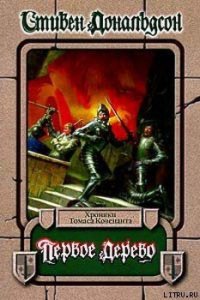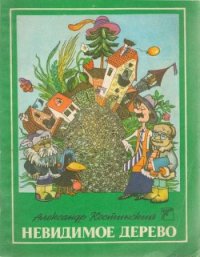Брысь, крокодил! - Вишневецкая Марина Артуровна (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Может быть, выкидыш был бы и так, и дело совсем не во мне. Откуда я знаю? Срок был еще смехотворный. Просто открылось кровотечение. Мама уложила меня на два дня к одной знакомой врачице… Больничка была, конечно, с тараканами. Но зато когда я вернулась, было чувство, знаешь, как в детстве на первомайской демонстрации — какой-то тотальной любви. Мама испекла мой любимый мясной пирог, расцеловала, сказала: «Вот и все у нас хорошо!». Бабушка вдруг подарила кольцо с бирюзой (фамильное!), а папа, как умеет только мой папа, сначала проиграл мне партию в шахматы — с трудом, от желания быть достоверным то и дело роняя фигуры, — и только после этого расцеловал.
Правда, потом я случайно услышала их разговор, они ужинали с отцом под «Намедни», в кухне, думали, что телевизор заглушает их голоса… Мама сказала: «Янка таким молодцом. Так держит удар!» Папа слушал Парфенова, из какой-то армейской части убежали очередные солдаты с оружием, папа с мясным пирогом во рту спросил: «Какой удар?» Мама сказала: «Судьбы. Я бы так не смогла». Папа дожевал: «А как Алеша? Как он?» Хоп, сказала себе я, вот что такое мужская солидарность. «Он славный мальчик. Хотя и из простой семьи. Он очень славный. Мне кажется, у него все будет хорошо». Папа опять набил рот пирогом, пошли помехи. Но смысл был такой, что все у тебя и меня, может, еще и наладится. Мама сказала: «Ты что, не знаешь собственного ребенка? Скорее евреи договорятся с арабами по поводу территорий». — «Между прочим, очень вкусный пирог, — сказал папа (это значит, пирога уже не было). — Не знаю, да, собственного ребенка. Думал, что знаю. Не знал. Да. А нет ли у нас еще чего-нибудь вкусненького?»
Вот. А я не то чтобы от них поясных поклонов ждала… Но все-таки, все-таки… Ладно, неважно. Им просто хотелось, как и всем нормальным родителям, чтобы я подольше оставалась ребенком. С родителями это часто бывает. Чтобы запиралась, рыдала. А еще лучше, чтобы прятала свою голову, как трехлетняя, им в колени. И они бы меня понимали, гладили, жалели.
А правда, я классно придумала про врача, в которого за два дня лежания влюбилась в больнице? Врача-гинеколога. Извини, извращение, конечно! Но ведь придумано классно. И тебе не обидно. Больно, да, но ведь не обидно, согласись? И главное — необратимо, однозначно, моментально, как удар топора… по всему лучшему и худшему во мне. Во мне! Ты-то жил, приезжал, бродил, страдал, на что-то еще надеялся, когда мигал мне снизу фонариком. И даже когда запил, Макс сказал, что ты два месяца пил по-черному, в тебе же ничего не скукожилось, не умерло, не выгорело дотла. Помнишь, когда мы в наш последний дачный день гадали на Барте, тебе выпало: «Вопреки всему субъект утверждает любовь как ценность»? Ты же с этим остался, нетронутым, младенчески неповрежденным, ведь так?
А мне — мы никак тогда не могли понять, почему, — открылась страница с сюжетом про слезный дар, — теперь понимаешь? — в двенадцатом веке один молодой монах отправился в монастырь в Брабанте, чтобы обрести там, молитвами местных монахов, слезный дар.
Ну вот. А теперь опять про картину ван Эйка. Про себя на этой картине. Слушай!
На факультативе (платном!) по истории искусств нам говорили, что супруги Арнольфини, якобы, только изображают благополучие. Message картины в том, что в доме поселился разлад. О чем свидетельствуют две пары обуви — на переднем и заднем плане. Эту нескладно стоящую обувь (носами друг к другу, а во втором случае пятками) тетенька-училка радостно черкала красным указующим зайчиком. Современники ван Эйка, говорила она, символику картины считывали легко: ведь, по голландской традиции, обувь должна стоять строго параллельно друг другу.
Ну так вот, дорогой Алеша, в табличке, висящей при картине (а ей не верить у меня нет оснований), говорится совсем о другом: чета Арнольфини принимает гостей. Оказывается! Но гостей на картине нет. Даже стоя к картине вплотную, их практически не различить. Картина-то совсем небольшая. А гости-то, гости, оказывается, отражаются в зеркале — в небольшом круглом зеркале, висящем на задней стене, — два смутных абриса. Над зеркалом же, прямо по светлой стене, — латинская надпись. И надпись эта гласит: «Здесь был Иоганнес ван Эйк / 1434». Представляешь? Ты смотришь в зеркало и в крошечной, в едва различимой фигурке не видишь, только угадываешь его. Он здесь был, он здесь есть. Но в это самое зеркало смотришь сейчас и ты. И, значит, это еще и твое отражение. Не по принципу «привидения отражаются в зеркалах»… Наоборот! По принципу: он здесь был, я здесь есть. Вот такая, какая есть. Здесь, теперь. Разлива две тысячи второго года. Яна Александровна Юркина, Бегичева по маме. Юнгер по исторической справедливости. Мечтающая о более престижной работе (папин лондонский друг обещал позвонить их третьему другу в Москве!), двухэтажном загородном доме, где мы будем жить всей нашей большой семьей: родители, обе бабушки, дед, я с мужем, детьми и, естественно, сеттером с твоими глазами, — отвечающая за всех за них вместе, по отдельности, сейчас, всегда. А ты заведи себе, пожалуйста, сиамскую кошку с глазами василькового цвета и, пожалуйста, я не против, назови ее Яной. Когда она загуляет, ты будешь высовываться и кричать на весь двор: «Янка! Go home!» Означаемое и означающее будут трагически, будут комически не совпадать. И все-таки кошка тебя поймет. Только кошка. И только я.
Т.И.Н. опыт сада
Соседи моей двоюродной сестры, пока не новые русские, но люди, к этому явно предрасположенные, много и трудно для этого работающие, хочется сказать старомодно: «попросили меня посидеть»… но нет, наняли на три летних месяца няней и немного гувернанткой — за хорошие, по моим представлениям, деньги. В институте к этому времени мне оставили уже только заочников, так что лето, все целиком, стало моим.
В нашем с Дашей распоряжении оказалась половина одноэтажного дома: три комнаты с кухней и чудной, обитой вагонкой верандой. Вход у нас был отдельный, перед крыльцом цветник, вокруг дома сад.
В этом саду я впервые увидела, как раскрывается мак. Происходит это ровно за двадцать минут. Лопается бутон, причем лопается внизу, под ним оказывается ком как будто смятой папиросной бумаги. И этот ком на твоих глазах неспешно приподнимается, расправляется, чтобы в конце концов сбросить светло-зеленую, шершавую, мешающую пришлепку. Новорожденный мак еще влажен — всего только мак, а стоит и покачивается, как однодневный теленок. Он родился. Если ты это видел, его уже невозможно сорвать.
А чтобы увидеть закат — во всю ширь, иногда во всю его многоярусную и многоцветную глубину, — нам с Дашей было достаточно выйти на огород. А уж если девочка моя не ленилась, не капризничала, не сводила со мной счеты за какое-нибудь дневное «нельзя», мы отправлялись на наш косогор: внизу, словно в чьей-то мозолистой ладони, лежала деревенька, а за ней вверх по склону, к самому небу карабкался густой, смешанный, в эти минуты уже, как смола, черный лес и впечатывал свои ели в самые облака. В августе на эту натруженную ладонь, как будто другой, свободной рукой, были небрежно брошены хлопья тумана. И похожая дымка то там, то тут тянулась над лесом. В моем детстве мы украшали елку просто кусочками ваты. А получалось вот так же таинственно.
Когда солнце соскальзывало, а иногда казалось, стекало за растопыренные, будто вырезанные ножницами ели, и утягивало, — а он медлил, не хотел, не утягивался, — последний лучик, Даша сердилась, сердилась искренне, а хмурилась деланно, яростно топала ногой: «Ну все, его нет! Все, все, пошли отсюдова!» — как будто и ей могло быть по-настоящему грустно. Грустно, в какой-то миг безысходно, потом отстраненно, спустя мгновение — отрешенно… и вдруг почему-то светло. Невыразимо. Стареющая женщина и девочка четырех с небольшим лет, друг другу случайные, можно сказать, чужие, стояли, в этой невыразимости увязнув, — если правда, что птицы во время заката на миг умолкают, я думаю, ровно по той же причине, — а потом и мне, и ей как-то сразу делалось зябко. Она хныкала, просила жакетик, хотела, чтобы домой я несла ее на руках. И часто засыпала, прилипнув кудряшками к моей взмокшей шее, укаченная на ходу моим немного вразвалочку шагом. В саду было уже по-настоящему сумеречно. И только синицы дозванивали невысказанное друг другу за день.

![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (книги онлайн полностью .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)