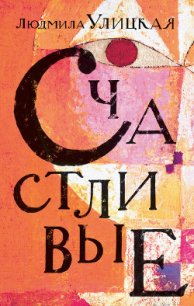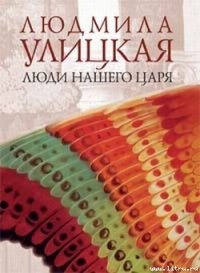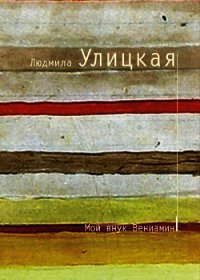Люди нашего царя - Улицкая Людмила Евгеньевна (читаемые книги читать онлайн бесплатно txt) 📗
– Убить бы его, – думала Нина. – Но как тогда с комнатой быть? Без черта этого безногого ведь не дадут!
Черт же безногий побушевал, допил самогон и уснул прямо на пороге, на половике. Нина материно лицо обтерла тряпочкой, и так ей стало ее жалко, что ну ее, эту комнату. А отец лежал возле самой двери, храпел, храп вырывался из его перебитого носа, и во сне поскребывал черными руками по полу, как будто ложки вырезал.
Нина посмотрела, посмотрела, дверь толкнула, она открылась на весь раствор. Чистый и твердый холод рванулся внутрь, и Нина сразу сообразила, что надо делать: она схватилась за край половика и потянула на себя, и отец перевесился через порог, а она дернула из-под него половик, и он плечами ушел за порог и рухнул вниз, грохоча об лестницу. Нина захлопнула дверь.
И сразу же заплакали оба, так что пришлось ей взять из горшка каши пшенной, пожевать и покормить их через тряпочку. Они пососали жамку и заснули. Матери дала попить.
Нина была умна не по годам. Легла рядом с матерью, на освободившееся отцовское место, положила рядом Ваську – пусть греется возле мамки, раз она такая горячая. Про отца подумала мельком: если убился, то и пусть. А если не убился, то пусть замерзнет, как Шура-пьяница замерзла в том году прямо во дворе на лавочке. А меня и не заругают, скажу, сам упал.
И она стала засыпать, и было так хорошо в постели, на мягком, тем более что сквозь сон послышался колокольный звон, праздничный и частый… «Уже снится», – успела подумать Нина.
Но не снилось. Кончилась Рождественская служба в Пименовской церкви, и сумасшедший звонарь, нарушая строгий запрет, выколачивал из последнего оставшегося колокола радостную весть о рождении младенца. А еще через двадцать минут две боговерующие старухи, самогонщица Кротиха и ее подружка Ипатьева, вошли в заснеженный двор, продолжая волнующую дискуссию – большой ли грех было пойти в эту самую Пименовскую церковь, обновленческую, партийную, или ничего, сойдет за неимением поблизости хорошей, правильной. Все же было Рождество, великий праздник, и ангелы поют на небеси…
С небеси падал медленный, крупными хлопьями выделанный снег, и, ложась на землю, светил не хуже электричества. Безногого Василия еще не замело, и старухи заметили темный ворох на земле около лестницы. Он не разбился. И даже не проснулся от падения. И замерзнуть тоже не успел.
Старухи оттерли его, отпоили. И никто не умер. Оправилась от воспаления легких Граня, выходила еле живого маленького Ваську. И через год родила еще одного, Сашку. И комнату успели получить незадолго до смерти безногого Василия. Он вскоре после того, как комнату дали, сам и повесился. Нинка горько плакала на похоронах отца. Ей было его страсть как жалко. А что она его с лестницы бросала, она и не помнила.
А в ту Рождественскую ночь все так хорошо обошлось.
Коридорная система
Первые фрагменты этого паззла возникли в раннем детстве и за всю жизнь никак не могли растеряться, хотя многое, очень многое растворилось полностью и без остатка за пятьдесят лет.
По длинному коридору коммунальной квартиры бежит, деревянно хлопая каблуками старых туфель, с огненной сковородой в вытянутой руке молодая женщина. Щеки горят, волосы от кухонного жару распушились надо лбом, а выражение лица неописуемое, ее личное – смесь детской серьезности и детской же веселости. Дверь в комнату предусмотрительно приоткрыта так, что можно распахнуть ее ногой, – чтоб ни секунды не уступить в этом ежевечернем соревновании с законом сохранения энергии, в данном случае – не попустить сковородному теплу рассеяться в мировом холоде преждевременно. На столе перед мужчиной – проволочная подставка: жаркое он любит есть прямо со сковороды. Лицо его серьезное, без всякой веселости – жизнь готовит ему очередное разочарование.
Она снимает крышку – атомный гриб запаха и пара вздымается над сковородой. Он подцепляет вилкой кусок мяса, отправляет в рот, жует с замкнутыми губами, глотает.
– Опять остыло, Эмма, – горестно, но как будто и немного злорадно замечает он.
– Ну, хочешь, подогрею? – вскидывает накрашенные стрелками ресницы Эмма, сильно похожая на уменьшенную в размере Элизабет Тейлор. Но об этом никто не догадывается – в нашей части света еще не знают Элизабет Тейлор.
Эмма готова еще раз совершить пробежку на кухню и обратно, но она давно уже знает, что достигла предела своей скорости в беге на короткую дистанцию со сковородкой. Муж блажит, а она, во-первых, великодушна, а, во-вторых, – равнодушна: не станет из-за чепухи ссориться.
– Да ладно уж, – дает он снисходительную отмашку. И ест, дуя и обжигаясь. Восьмилетняя дочка Женя лежит на диване с толстенным Дон Кихотом. Читает вполглаза, слушает вполуха: получает образование и воспитание, не покидая подушек. Одновременно крутится не мысль, а ощущение, из которого с годами соткется вполне определенная мысль: почему отец, такой легкий, веселый и доброжелательный со всеми посторонними, именно с мамой раздражителен и брюзглив? Заполняется первая страница обвинительного заключения…
Через семь лет дочь скажет матери:
– Разводись. Так жить нельзя. Ты же любишь другого человека.
Мать вскинет ресницы и скажет с испугом:
– Разводись? А ребенок?
– Ребенок – это я? Не смеши.
Еще года через три, навещая отца в его новой семье, выросшая дочь будет сидеть в однокомнатной квартире рядом с новой отцовой женой, дивиться на лопающийся на ее животе цветастый халат, волосатые ноги, мятый «Новый мир» в перламутровых коготках, на желудочный голос, урчащий:
– Мишаня, пожарь-ка нам антрекотики…
Отец потрепал молодую жену по толстому плечу и пошел на кухню отбивать антрекотики и греметь сковородой…
Потрясающе, потрясающе – поражается дочь новизной картинки. – А если бы мама тогда один раз треснула его даже не сковородкой, а сковородной крышкой по башке, могли бы и не разводиться… Господи, как все это интересно…
Но Симону де Бовуар тогда еще не переводили, и про феминизм еще слуху не было. А у Сервантеса об этом – ни слова. Даже скорее наоборот, посудомойка Дульсинея числилась прекрасной дамой. Мама же к тому времени заведовала лабораторией и за счастье считала испечь любимые пирожки с картошкой своему приходящему Сергею Ивановичу. Десятилетнее многоточие счастья: ежедневная утренняя встреча в восемь в магазине «Мясо» на Пушкинской, сорокаминутная прогулка скорым шагом по бульварному кольцу к дому с кариатидами, трагически заламывающими руки, – к месту Эмминой работы, – ежевечерняя встреча в метро, где сначала она провожает его до Октябрьской, а потом он ее – до Новослободской. А иногда – просто несколько кругов по кольцу, потому что так трудно разомкнуть руки.
– Что же он не оставит свою жену, если так тебя любит? – раздраженно спрашивает Женя у матери.
Они видятся триста шестьдесят пять дней в году – кроме вечеров тридцать первого декабря, первого мая и седьмого ноября.
– Да почему?
– Потому что он очень хороший человек, очень хороший отец и очень хороший семьянин…
– Мам, нельзя быть одновременно хорошим мужем и хорошим любовником, – едко замечает Женя.
– Если бы я хотела, он бы оставил семью. Но он бы чувствовал себя очень несчастным, – объясняет мать.
– Ну да, а так он очень счастлив, – ехидничает дочь. Ей обидно…
– Да! – с вызовом подтверждает мать. – Мы так счастливы, что дай тебе Бог узнать такое счастье…
– Да уж спасибо за такое счастье… – фыркает дочь.
Десять лет спустя дочь, придавленная к стулу семимесячным животом, сидит глубокой ночью возле матери, в единственной одноместной палате, выгороженной из парадной залы особняка с кариатидами, трагически заламывающими руки, отделенная от соседнего помещения, кроме фанерной стены, еще и свинцовым экраном, долженствующим защищать ее будущего ребенка от жесткого радиоактивного заряда, спящего за стеной в теле другой умирающей.
Вторые сутки длится кома, и сделать ничего нельзя. Женя видела, как за два дня до этого мамина лаборантка пришла делать ей анализ крови и ужаснулась, увидев бледную прозрачную каплю. Крови больше не было…