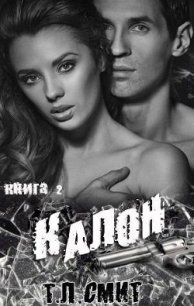Исповедь пастора Бюрга - Шессе Жак (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
III
Я увидел ее снова после Пасхи, на первом занятии, в ризнице, где нам предстояло больше года встречаться дважды в неделю. Я был поражен ее красотой, изяществом и серьезным видом, что так не соответствовало шумному нраву и чванливым замашкам ее отца. Она была неразговорчива и редко принимала участие в наших беседах, но по всегда внимательным глазам и немногим ее вопросам я угадал тонкий и не по годам зрелый ум.
Я говорил и все время видел в глубине тесной полутемной комнаты ее длинные светлые волосы, блестевшие в последних лучах заходящего солнца. Она записывала что-то. Она слушала вдумчивее и схватывала быстрее, чем остальные. Очень скоро она перестала дичиться. Часто бывало теперь, что после двух часов, проведенных нами вместе, она задерживалась еще на несколько минут и просила меня то-то объяснить или вернуться к интересному моменту нашей беседы. Я поймал себя на том, что ее присутствие заставляет меня быть взыскательнее в моих речах: так, у меня вошло в обычай глубже вникать в вопросы и иллюстрировать примерами мои толкования, всесторонне освещать тот или иной тезис, чье-либо высказывание; я так увлекся, что львиную долю времени посвящал подготовке уроков катехизиса. И тогда мне пришлось признать очевидное: каждую неделю я ждал этих встреч с растущим нетерпением, и, если из Бюзара звонила экономка с сообщением, что мадемуазель Женевьева нездорова и не сможет присутствовать на занятии, я испытывал острое разочарование, и только мысль о том, что она придет на следующий урок, немного утешала меня.
Моего читателя удивит это признание: он-то считал меня аскетом, безраздельно преданным вере! Как, воскликнет он, у вас были глаза, было сердце, ее отсутствие причиняло вам боль? Могу только утверждать, что ни лицо, ни поведение не выдавали моей грусти, когда я не видел Женевьевы, и смятения, в которое повергали меня встречи с ней. На уроках катехизиса я видел ее одну. Но я оставался пастором Бюргом. Я продолжал носить неизменную маску приветливости и, хотя все яснее отдавал себе отчет в своих чувствах, старался ни на миг не забывать о миссии возмездия.
Порядок должен восторжествовать. Пусть даже я навеки погублю себя, погубив эту девушку, но мой долг — покарать Н. через его дочь. Я влюблен, но Женевьева все равно останется жертвой. Я не скрывал от себя ни двусмысленности моего положения, ни опасности, грозившей мне в случае разоблачения. Я любил Женевьеву; все, что я знал о ней, внушало уважение и восторг, однако я был полон решимости сломать ей жизнь, дабы свершилось правосудие. Я восхищался ее хрупкостью, ее свежестью — и хладнокровно готовился втоптать ее в грязь. Эта нестерпимая мысль неотступно преследовала и точила меня, но я знал, что не могу изменить принятому решению.
С другой стороны, было слишком хорошо известно, что меня ждет, если я стану действовать опрометчиво. Женевьева несовершеннолетняя. Я пастор: успех достанется чудовищно дорогой ценой. Предстоит расследование, возможно, долгие месяцы обследований в психиатрической лечебнице, в любом случае — суд присяжных, лишение сана. Представляя себе все это, я лучше осознавал беспощадность Бога, избравшего меня своим орудием. Ибо я не мог более уклоняться от служения Ему. Я был отмечен Им. Оставалось лишь повиноваться — и погибнуть, подобно торпедоносцам, о которых я слышал в конце войны, или тем японским летчикам, что пикировали на вражеские корабли: я воспламеню и сгорю сам, покоряясь непреклонной воле Господа…
Итак, я ждал случая поближе сойтись с Женевьевой. Я не решался торопить события, зная сеть осведомителей Н. и не желая испортить все дело подозрительной поспешностью. Вне стен ризницы я не обменялся с девушкой ни словом. Когда мне бывало даровано увидеть ее на улице или в лавке, я, превозмогая искушение подойти к ней и заговорить, лишь кланялся издали. Но ее присутствие на занятиях наполняло меня огромным счастьем, и я уже не мог жить, не видя сияния ее волос в косых закатных лучах, в глубине сумрачной комнатки. Я, всегда остерегавшийся цветистых образов, ловил себя на том, что сравниваю эти волосы со светильником впотьмах или с прекрасным витражом, пламенеющим в алтаре. Образ светильника особенно пришелся мне по душе. Я беспрестанно представлял себе его, словно ища спасения или какой-то таинственной поддержки. Может показаться странным: в иные вечера, когда ризницу окутывали сумерки, я доходил в экзальтации до того, что эти лучезарные волосы были для меня равны присутствию самого Бога. Куда только не увлекало меня воображение! Я грезил наяву. Так, значит, Он поселился среди нас! На краткий миг Его беспощадность растаяла в этой кротости! Потом молодые люди расходились. Женевьева ненадолго задерживалась поговорить со мной, и наконец я оставался один в ризнице, где уже сгущался ночной сумрак. Но читатель уже понял, что эта тьма была для меня светлее царства небесного, ибо сияние, которым озарило его чистое дитя, долго еще не угасало во мне.
Кто-то, быть может, спросит: а как же у меня при этом хватало сил исполнять свои пасторские обязанности? Я удивлю читателя, сказав, что после возвращения Женевьевы на ферму Бюзар я трудился больше, чем когда-либо. Каждую неделю я готовил воскресную проповедь. Я посещал больницу, организовал сбор пожертвований в пользу бедных, помогал улаживать, если меня просили, семейные дела: можно убедиться, что я не щадил себя. А были еще венчания, крестины, похороны: каждый такой обряд становился испытанием, и требовалось проявлять волю, чтобы не выдать себя на бесконечных пирушках с обильными возлияниями, которыми неизменно завершались эти церемонии. Несколько раз я чуть было не сорвался. Едва успевали засыпать умершего землей, едва были произнесены супружеские обеты перед Господом, как все эти гуляки, все кумушки-сплетницы набрасывались на снедь и бутылки с жадностью, изумлявшей меня и наполнявшей отвращением. Я уходил. И грусть, глубокая и пронзительная, еще долгие часы не покидала меня. Да, мне было грустно, грустно оттого, что можно забыть о Боге, как, я видел, забывали о Нем на этих оргиях, этих нелепых пиршествах. Грустно еще и потому, что Бог позволил забыть о Себе, хотя я прекрасно знал, как легко было бы Ему устрашить этих несчастных и вернуть Свое истинное место в их жизни. Молчание Предвечного оскорбляло меня. Его добровольное изгнание, в котором Он, казалось, неплохо себя чувствовал, было мне невыносимо. Я воскрешал в памяти ярчайшие примеры Его гнева: стены, рухнувшие перед войском Его, моровые язвы, сметенные с лица земли города, — и в уединении рабочего кабинета сердце мое скорбело и обливалось кровью. Я думал о том гневном Боге, что помог евреям одолеть столько врагов, столько дьявольских козней. Я воображал себе, как поселок очистится наконец от греха, как воссияет царство Божие на всех лицах, и, пусть сочтут меня наивным, признаюсь, что в такие минуты псалом просился на мои уста как самое естественное утешение и самая пылкая молитва:
Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердни, как Бог наш.
Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены! <1-я Царств, II, 2-3>
От этих слов радость волной накатывала на меня. Вслушиваться в них, повторять вполголоса у себя в кабинете — это укрепляло мой дух; они помогали мне нести свой крест (и сносить окружающее зло) терпеливо, ибо скоро, очень скоро опалит всех гнев Господень.
Я готовил кару: я был исполнителем Его воли, Его правой рукой. Хмельной восторг охватывал меня, и я готов был идти куда угодно, выступить против кого угодно: в собственных глазах я стал раскаленным камнем, нет, лучше того, булатом, оружием, чей клинок крепкой закалки сразит любого врага. Я взывал к Богу изо всех сил, и в экзальтации тех минут казалось, будто Он обращается ко мне, будто Его чудесное слово сопровождает каждый мой миг, каждый шаг. Да позволено будет это признание: в такие часы голос Бога омывал меня. Его голос был словно могучая река — ее воды катились, окутывая меня, увлекая, поднимая…