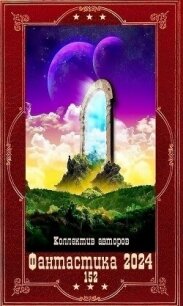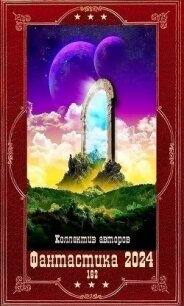Слоновья память - Лобу Антунеш Антониу (хорошие книги бесплатные полностью .txt, .fb2) 📗
— Я слишком стара, а вы слишком молоды, — объяснила медсестра. — А бумеранги в конце концов всё же возвращаются, хотя бы даже ночью, на цыпочках, виновато насвистывая.
Вернуться, прикинул психиатр и повторил это слово неторопливо, как крестьянин, сворачивающий задумчивую самокрутку на закате посреди пшеничного поля, вернуться, открыть дверь с литературной простотой «Трогательного чуда» [22] и сообщить, улыбаясь: «Я тут»? Вернуться, как дядюшка из Америки, как сын из Бразилии, как чудесно исцеленный из Фатимы, победоносно закинув костыли на плечо и неся на себе отблеск видения небесной хиромантки, ловко демонстрирующей библейские трюки на импровизированной сцене под каменным дубом [23]. Вернуться, как сам он вернулся несколько лет назад с войны в Африке в шесть утра, для того чтобы украсть у судьбы счастливый месяц под крышей мансарды и для того чтобы убеждаться от улицы к улице, что, пока его не было, все осталось прежним: черно-белая страна, выбеленные стены, вдовы в черном, статуи цареубийц, вздымающие карбонарские кулаки к небу на площадях, равнозаселенных пенсионерами и голубями, одинаково позабывшими радость полета. Ощущение, что он потерял ключ, хотя тот так и лежал в бардачке между засаленными бумажками и склянками со снотворным, вызвало у него приступ безнадежного, тоскливого, абсолютного одиночества, прежде незнакомого чувства, сковывающего движения, не дающего набрать номер, напечатанный против его имени в телефонной книге, и попросить спасения у женщины, которую он любил и которая любила его. Собственная беспомощность жестокой болью ударила ему в глаза, застлав их кислым туманом, который невозможно ни прогнать, ни подавить, как отрыжку. Пальцы медсестры легко коснулись его локтя:
— Кто знает, может быть, и есть такие бумеранги, которые не возвращаются. И при этом как-то умудряются выживать.
И психиатру показалось, что его только что соборовали.

Спускаясь по лестнице в отделение неотложной помощи, он издали заметил рядом с тонущим в вечном полумраке, будто ризница, и пропахшим лаком для ногтей кабинетом социальных работников — печальных уродливых созданий, которым и самим-то неплохо было бы получить социальную помощь, — группу распространителей медицинских товаров, занявших стратегические позиции в ближайших дверных проемах и готовых в любую секунду разразиться бурным словесным потоком, порой способным привести к летальному исходу оказавшихся в зоне поражения неосторожных эскулапов, невинных жертв их навязчивого обаяния. Психиатр считал, что агентов по распространению аптечных товаров и торговцев автомобилями объединяет одна родственная черта: слишком изысканное и нарядное красноречие; вторые, вероятно, приходились братьями-бастардами первым, отделившись от основной фамильной ветви в результате какого-то темного несчастного случая с хромосомой и перейдя из семейства фар и поворотников в семейство мазей от ревматизма, но не утратив при этом неутомимой усердной суетливости, свойственной им изначально. Его поражал артистизм этих существ, способных любого вогнать в долги, этих сверхлюбезных непотопляемых неваляшек, обладателей толстых портфелей, хранящих в своих глубинах секрет превращения рахитичных горбунов в атлетов-чемпионов, искусство, с которым они всей толпой воздавали ему почести, не уступающие поклонению волхвов, осыпая дарами в виде пластиковых календариков с рекламой противосифилитических презервативов «Дональд» — врагов номер один демографического взрыва, нежных на ощупь и покрытых на кончике тонкими возбуждающими ворсинками, поднося картонные наборы шахмат, ненавязчиво восхваляющие чуть ли не в каждом доме достоинства микстуры «Эйнштейн» для поддержания и восстановления памяти (три вкуса: клубника, ананас и бифштекс), шипучие таблетки от диареи, вызывающие страшную изжогу, так что страдающих кишечными расстройствами начинала волновать также и тема желудка, маневр, направленный на обогащение продавцов минеральной воды из Педраш-Салгадаш, которую предписывалось пить в кондитерской у стойки мелкими терапевтическими глотками. Врачи, вырвавшись из цепких объятий агентов, покачивались под тяжестью брошюр и образцов товара, очумев от частокола химических формул, противопоказаний и побочных эффектов, некоторые, не пройдя тридцати-сорока метров, падали замертво, с последним вздохом изрыгая сотни пилюль. Дворник равнодушно сметал измятые врачебные трупы в братскую могилу мусорного ведра, напевая под нос мрачную арию могильщика.
Под прикрытием двух полицейских, сопровождавших гордого старца, похожего на помощника нотариуса, замотанного в брезент смирительной рубахи, врач невредимым миновал грозную стаю рекламных агентов, соблазнявших его, словно хор сирен, одинаковыми улыбками, растягивая губы, как мехи аккордеона, меж угодливых щек: как-нибудь таким же утром они утопят меня во флаконе антибиотика «Амигдал», сохранят, точно так же как мой отец непонятно зачем хранил на стеллаже заспиртованную сколопендру, и продадут медицинскому факультету, сморщенного, как жертва выкидыша, чтобы меня выставили в качестве экспоната коллекции монстров в Институте анатомии — этакой ученой лавки мясника с интерьером Замка-призрака, где скелеты, вися на вертикальных металлических стержнях, будто увядшие цветы, занавешивают свое уныние клочьями седых волос, кое-где свисающих с черепушек, уставившись друг на друга пустыми глазницами отставных вояк.
Под прикрытием свиты помощника нотариуса с трепещущими от горделивой застенчивости усами психиатр миновал невредимым и своего знакомого госпитализированного алкоголика, который каждое утро упорно стремился поведать ему во всех подробностях историю бесконечных супружеских дискуссий, подкрепляемых аргументами в виде летающих кастрюль и сковородок («Слышь, дохтур, я этой, бля, по вшивой башке как дал леща, так она аж восемь дней юшкой харкала»), и худенькую конторскую даму, живущую в страхе перед спермой своего мужа и обычно проявлявшую жадный интерес к сравнительной эффективности двухсот двадцати семи различных контрацептивов, и больного с окладистой бородой, озерного водяного, который питал к врачу восторженную привязанность и выражал ее громогласными панегириками, держась на почтительном расстоянии исключительно благодаря санитарам, ответственным за использование смирительных рубах, дышавшим друг другу в волосатые уши чесночным перегаром. Он прошел мимо кабинета зубодера — опустошителя десен, с воем сражавшегося против особо упорного коренного, и решил уже, что каким-то чудом добрался невредимым до неотложки, матовая стеклянная дверь которой казалась ему флагом, маячившим на финише велогонки, когда чей-то зловредный палец властно ткнул его между лопаток, этих выступающих треугольных костей, которые своей формой свидетельствовали о его ангельском прошлом, хоть он и прятал их под тканью пиджака, стесняясь своего божественного происхождения, подобно тому как аристократы громко рыгают под конец обеда, делая тем самым благородную уступку миру, живущему по законам джунглей.
— Друг мой, — воскликнул голос за спиной, — что там насчет коммунистического заговора?
Полицейские, перемещавшие помощника нотариуса с той же осторожностью, с какой грузчики несли бы взбесившееся пианино, постоянно играющее изуродованную фальшивыми нотами сонатину бреда величия, поравнявшись с дверью архива — обиталища близорукой дамы в очках толщиной с пресс-папье, за которыми ее глаза казались настолько огромными, что походили на косматых гигантских насекомых с торчащими во все стороны лапками-ресницами, — предательски бросили врача на произвол низкорослого коллеги, дрейфовавшего в озере обширного шевиотового пальто и увенчанного тирольской шляпой, сидящей на голове, как пробка в горлышке бутылки, готовая вот-вот выскочить под напором неостановимого пенного потока идей. Коллега высунул из волн шевиота руку-крюк, которая, вместо того чтобы взмахами позвать на помощь, повисла, уцепившись за галстук психиатра, как утопающий хватается по ошибке за синюю в белую крапинку морскую змею, тут же развязывающуюся с мягкой инерцией шнурка. Нынче все будто сговорились, подумал психиатр, лишить его последнего подарка, выбирая который жена мечтала уменьшить его сходство с деревенским женихом, застывшим навытяжку для праздничного портрета на фоне ярмарки: он с отрочества носил на своем асимметричном лице фальшивую и грустную печать сходства с покойными родичами из семейных фотоальбомов со стертыми йодом времени улыбками. Любимая, сказал он про себя, трогая галстук, знаю, это слабое утешение, знаю, что не поможет, но из нас двоих именно я оказался не способен к борьбе; и ему вспомнились долгие ночи на мятом простынном берегу, когда его язык неторопливо очерчивал контуры сосков, освещенных сеткой свечек ранней зари, вспомнился поэт Робер Деснос [24], который, умирая от тифа в немецком лагере для военнопленных, сказал: это мое самое утреннее утро, вспомнился голос Джона Кейджа [25], повторяющий «Every something is an echo of nothing» [26], и как ее тело открывалось створками ракушки, чтобы принять его, трепеща, подобно вершинам сосен, овеваемых тихим незримым ветром. Перо на тирольской шляпе коллеги-коротышки металось, как стрелка счетчика Гейгера, оказавшегося над месторождением руды, пока он тащил психиатра в уголок, как больного краба, пойманного цепкой и прочной сетью. Конечности коллеги пребывали под пальто в беспорядочном броуновском движении, как мухи под ворвавшимися в погреб лучами солнца, рукава множились в судорожных жестах охваченного вдохновением проповедника.