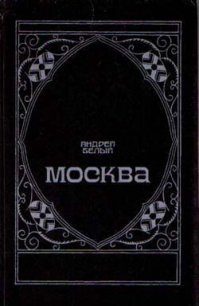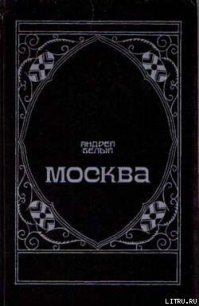Жёстко и угрюмо - - (книги полностью TXT) 📗
Узкая ледяная кухня, стонут гнилые доски под ногами жены, слышны её всхлипы и равнодушный лай соседской собаки; потом проехал поезд в ста метрах от нас – и его бесконечное грубое лязганье победило все прочие звуки.
Печь задымила сразу, из множества дыр потянулись клубы цвета гнилой ваты – пришлось открыть дверь в сени и разъять окно топором. Но когда выходил во двор за новыми поленьями и возвращался – понимал, что выветрить угар будет нелегко.
Печь несколько раз перекладывали – наверное, сам отец и занимался; вместо огнеупорных кирпичей использовал обычные, вместо специальной глины – строительный раствор. Печь сочилась ядовитым дымом в пятнадцати, может быть, местах.
– Выйди, посиди в машине, – сказал я жене. – У нас есть водка, у нас есть колбаса. Погуляй. Через час всё будет в порядке. Тётка Зоя приедет – а у нас, как в песне: «в горнице моей светло…».
Жена не знала старой песни, но улыбнулась; послушалась и вышла, прижимая к груди нечистую пухлую папку. Нашла, что хотела. Тётку мы победили – теперь я хотел победить дом, он должен был служить людям, а не травить их дымом.
Сел на пол, подложив полено. Стоять в полный рост уже было нельзя, выше груди пространство заполнилось угаром, голова тяжелела.
Идея заключалась в том, чтобы сильно протопить печь. Тогда камни-кирпичи расширятся от нагрева, и щели между ними исчезнут. Затем – проветриваю избу, и – хоп! – она становится тёплой. Жилой.
Огонь гудел, дрова оказались превосходны, и вообще некоторые детали обстановки указывали на любовь покойника к порядку. Топоры-молотки-пилы висели по стенам, каждая приспособа – на своём месте; чистое ведро с кормом для птиц, и другое, ещё чище – с водой, и бумага для розжига – в особой коробке, и мятая железная посуда стояла строем; ножи наточены. Всё, без чего нельзя было совершать насущные акты выживания, содержалось в отличном состоянии. Но на ремонт печи уже, видимо, не было сил и денег.
Прижимая к носу шерстяную перчатку, я обошёл дом и забрал всё ценное. Из книг ничего не взял, кроме Блаженного Августина: «О граде божием». Редких книг было мало, но я не удивился. Покойный отец – литератор – наверняка имел хорошую библиотеку, но с приходом старости раздарил лучшие книги, или даже распродал понемногу. Теперь на чёрных полках стояли главным образом многотомные собрания медленно и верно устаревающих русских классиков. Известная история. Мой дед когда-то имел библиотеку в четыре тысячи томов, но к семидесяти годам постепенно раздарил всё лучшее и редкое. Книги нельзя присваивать навечно: прочитав и перечитав, можно и нужно отдать другому.
Из вещей я взял старые, ещё советского производства инструменты, превосходного металла топоры и кувалды; они, как и сочинения Августина, вечные.
Угрызений совести не испытывал. Забрать вещи мёртвого – простой обычай. Тётка Зоя, по профессии балетный хореограф, вряд ли поняла бы ценность полутораметрового стального гвоздодёра.
Более того – мысль о том, что в доме папы можно будет найти много интересного, посещала меня ещё в дороге, и опять же, я не рассматривал себя как мародёра, не стыдился этой мысли, в ней не было ничего, кроме любопытства; если я и хотел обогатиться – то только знанием. Что может оставить после себя сумасшедший русский писатель? Человеческий череп, шкуру мамонта, раскольничью икону, письмо Троцкого Ленину? Закопанный в сарае обрез винтовки? Рукопись тайной доктрины?
Ничего не нашёл, кроме хорошего старого плотницкого инструмента. Сложил его на лавке, позвал жену.
– Это забираю. Ты не против?
– Конечно, – ответила жена. – Только я тут не могу больше. Дышать нечем. И ты уходи. Я устала сидеть в машине. Надо найти гостиницу.
Вышли во двор; тут я понял, что отравлен.
Мимо проскрипел сосед, прижимая к груди двух куриц.
– Совсем лёгкие, – сказал он нежно. – Дня четыре не жрали ничего.
Я кивнул. Соседа поглотил мрак. Голова кружилась.
Ничего, – подумал. Буду заходить, подкидывать новые поленья и тут же отступать на свежий воздух. Попрошу жену подождать ещё полчаса.
Дом нависал чудовищем: писательская хибара, лачуга философа-минималиста.
О, эти древние философы, Платоны-Сократы-Диогены, жители берегов благодатного Средиземного моря, – зачем они ввели тысячелетнюю моду на гордую нищету? На жизнь в бочках? Чёрта ли не жить в бочках, когда с веток свисают фиги-финики.
Что бы делал Платон, окажись он зимой в городе Пскове? Чем бы добывал себе хлеб и кров? Зимой во Пскове не обойтись крышей из пальмовых листьев. Здесь ты должен ежедневно бороться. Очаг, дрова, двойные рамы. Утепляешь стены, утепляешь двери. Питаться от плодов земли нельзя. В тунике и сандалиях не проскользишь, гордым аскетом, мимо сограждан. Изволь добыть шапку, валенки. Изволь питаться жирным и горячим – нужны калории.
В ужасе я понял, что всё здание мировой культуры покоится на придумках южных, теплолюбивых людей, – попадая к нам, северным людям, обитателям Гипербореи, их идеи отравляют нас и убивают.
Я вернулся в дом; там был угар, чад, газовая камера. Трещины, может, и сузились – но не исчезли.
Наверное, отец угорел, – подумал я. Печь всю зиму оставалась теплой. На ночь протопил – утром тут же загрузил новые дрова. Отрава копилась под потолком. Ежедневная небольшая доза угарного газа, каждый день – чуть бо́льшая. Не замечал её, привык. Запах дыма от хороших берёзовых дров часто бывает даже приятен. Гарь и сажу тоже не замечал, слишком мало света – старики не любят яркого света. Каждый день чёрное, ядовитое подступало ближе и ближе. Отмывать, чистить – не было сил. Друзей и подруг нет. Некому было сказать – остановись, рядом с тобой сгущается твоя гибель.
Может быть, ему говорили. Знал. Сам её приближал.
Кочергой протолкнул пылающие головни и подбросил свежего. Решил поберечь куртку: пропахнет – неделю буду отстирывать; надел телогрейку покойного. Потом подумал – жена увидит, опять заплачет. Снял отцову вещь, надел свою.
Последний раз они виделись пять лет назад. Папа обвинил дочь в безбожии, легкомыслии и безнравственности. Выгнал. Потом – только присылал записки, sms. Последняя – отправленная три недели назад – содержала цитату из Иоанна Кронштадского: «Любить Бога – значит, ненавидеть себя, т. е. своего ветхого человека». Я подумал, что нельзя теперь выйти к жене в рубище с драными локтями, ветхим человеком.
Может быть, он пытался договориться с тем ветхим парнем внутри себя, – но не смог, ветхий победил, обветшание тела перешло в обветшание дома?
Когда в третий раз натолкал дров и выскочил под чёрное ясное небо – потерял сознание, очнулся на снегу, боком, в правом ухе таял снег.
Дым валил из трубы, из раскрытого кухонного окна, – я проиграл, ветхое победило.
Поспешил встать – жена увидит, напугается до смерти.
Кое-как набрал в колодце воды, аккуратно залил печь.
Приехавшие родственники застали меня сидящим в углу кухни, в облаках серого пара, с чёрной кочергой в чёрной руке.
Печь шипела, как сто змей в десяти змеиных гнездах: проклинала меня, или убитого ею предыдущего владельца хижины, или нас обоих.
Поздним вечером, в гостинице, смыл с себя копоть и подержал в руках фотографии. Чёрно-белый отец – широкогрудый, в русой бороде – выглядел браво, улыбался, прижимал к себе дочерей. Ветхого человека, сидящего у него внутри, ждущего своего часа, когда можно будет начинать ненавидеть себя, свой быт, свой бренный телесный смрад, – я не разглядел, хотя смотрел внимательно.
Реальный бродяга
Он заехал в самом конце зимы. Или, может, в марте.
В тюрьме лучше не следить за календарём. Дни и месяцы похожи, время летит быстро – зачем подгонять?
Он заехал – и уже на третьи сутки всем надоел.
Его звали Заза. Родом из Осетии. Первостатейный отброс общества, можно делать чучело и выставлять в музее: «Мелкий уголовник эпохи расцвета дикого капитализма».