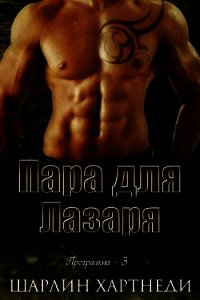Женщины Лазаря - Степнова Марина Львовна (читать книги онлайн без TXT) 📗
К сыну Линдта никто, кроме проворных медсестер, не подходил. Даже имя ему дал Николаич, уже после того, как сгорающий от нетерпения Линдт (ни разрыва, ни шовчика! можно! можно!) отвез Галину Петровну домой и чуть ли не сутки не выпускал из спальни — разве что попить воды да в очередной раз сцедиться. Пусть будет Борик, что ли, — присудил Николаич, неумело качая крикливого увесистого младенца и смутно припоминая, что у них в Елбани Борьками звали самых качественных и породных козлов.
Так сын Галины Петровны и Лазаря Линдта стал Бориком.
Трудно было представить ребенка, который был бы до такой степени не нужен никому.
Линдт оказался озабочен своим отцовством до смешного мало. Должно быть, добираясь от Авраама, который родил Исаака, который родил Иакова, который родил Иуду (и так далее со всеми занудными остановками во всех неисчислимых родах тринадцати израильских колен), ген иудейского чадолюбия так ослабел, что попал в Линдтову кровь совершенно выдохшимся, как старые никчемные духи. А может, весь его пыл ушел на Галину Петровну, в конце концов, с высоты его шестидесятилетия, она, в свои девятнадцать, была таким же точно ребенком — только гораздо более хрупким и ранимым, чем новорожденный бутуз, который по сто раз в день задристывал пеленки и требовал жрать с таким натужным, лиловым ревом, что ясно было — ломом засранца не зашибешь. Можно даже не пытаться.
Галина Петровна сына не любила — это было совершенно понятно и даже извинительно, но он был живой и беспомощный, и за ним надо было ухаживать, как она ухаживала бы даже за противными крысами в красном уголке. Просто потому что она советский, а значит, моральный человек, а не какой-нибудь проклятый фашист или американец. И Галина Петровна честно поднимала Борика, пеленала, терла ему спинку, чтобы срыгнул, но не испытывала при этом ничего, кроме тупого усталого удивления. Неумелая, как любая молодая первородка, она еще и совершенно не справлялась с бытовой сущностью своего нового положения: бутылочки надо было кипятить, молоко — сцеживать, киснущие в тазу пеленки и марлевые подгузники — стирать, полоскать и проглаживать с двух сторон. Галина Петровна похудела, осунулась, подурнела. По ночам она сбегала в детскую и часами сидела, напряженно прислушиваясь к тихому сопению Борика, — словно любая нормальная мать, вот только мечтала она не о том, чтобы малыш подольше поспал, а о том, чтобы вообще не проснулся. Бесшумным крошечным призраком входил Линдт, синеватый в предутренней темноте, обманчиво ненастоящий. Так не может больше продолжаться, ты себя уморишь. Давай возьмем няньку, в конце концов. Николаич уже сто раз предлагал, говорил, есть у него какая-то баба на примете. Ну, что ты капризничаешь? Галина Петровна упрямо крутила головой — шпионские бабы Николича ей были не нужны, достаточно того, что он сам бывает у них по сто раз на дню, тихий, страшный, как упырь, деловито распоряжается, суетится и нет-нет да поймает взгляд Галины Петровны и тоненько улыбнется самым краем рта — мол, помнишь уговор, сучка? Галина Петровна помнила.
Ну, полно, не плачь, фейгеле. Линдт подходил ближе, проводил сухими сморщенными пальцами по ее шее, потом по щеке, словно каким-то непостижимым образом слышал, как поднимаются внутри жены тяжелые слезы. Скоро станет полегче, вот увидишь. Пойдем-ка лучше баиньки, пока этот проглот снова не разорался. Галина Петровна покорно кивала, но с места не трогалась, чувствуя, как пальцы мужа, скользнув по ключицам, ползут ниже и ниже — к тяжелой, как кувшин, и такой же переполненной груди. Одними утешениями он никогда не ограничивался. Или не баиньки, а? Раз уж мы оба не спим и минутка выдалась? Линдт бормотал все сильнее и бессвязнее, все сильнее и бессвязнее ходили его руки, кряхтел, будто подразнивая отца, спящий Борик, а Галина Петровна, чувствуя, как с аппетитом впивается в бедро оброненная, видно, ею же самой погремушка, смотрела, как дергается рывками медленно светлеющий потолок, и думала, что, наверно, не ребенку и мужу надо желать смерти, не ребенку и мужу, не ребенку и мужу, этим двум чужим и неприятным ей существам, не ребенку и мужу следует исчезнуть из жизни, чтобы все наконец наладилось. А ей самой.
От самоубийства (совершенно реального, потому что Галина Петровна обдумывала его с холодным спокойствием хозяйки, прикидывающей, как половчее отрубить голову избранной на суп курице) ее спасла патронажная сестра Зоечка, еженедельно, по зову Минздрава, посещавшая плод Линдтовой страсти, а заодно и мамашу этого самого плода. Зоечка была курносая, толстая, смешливая и совершенная дура, к тому же дура необыкновенно деятельная. Небогатые белесые косицы она корзинкой укладывала вокруг набитой всякой суеверной ересью головы и лезла решительно всюду, особенно туда, куда не просят. Дело свое, впрочем, Зоечка знала преотлично, и даже самые набалованные младенцы во время ее инспекции не орали, а только сучили толстыми, в перетяжках, ножками и умильно гукали. Состоянием Борика Линдта Зоечка была довольна — он прибавлял в весе и росте согласно выпущенной Минздравом инструкции, не норовил раньше времени затянуть родничок и даже гадил меконием образцового аромата и консистенции, но вот Галина Петровна Линдт Зоечку беспокоила.
Она все больше отмалчивалась, смотрела в пол пустыми светлыми глазами и двигалась с протяжной задержкой, будто отставала от всего прочего мира секунд на десять, как шагающий по дну густого торфяного пруда водолаз в тяжелом, накрепко свинченном костюме. Несомненно, следовало предположить послеродовой психоз, но это было и вполовину не так интересно, как сглаз или венец безбрачия, которые преотличным образом уживались в Зоечкиной голове с симптомами желтухи новорожденного и основными пороками развития. Поэтому, улучив минуту, она увела Галину Петровну на кухню и энергично принялась убеждать девятнадцатилетнюю супругу академика в том, что на ее родовое дерево навели порчу-сухотку. Видно, нашептали на вас, страстно митинговала Зоечка, сильно тараща круглые, синие, как фарфоровые шарики, глаза и хватая Галину Петровну то за плечо, то за руку. Люди, они завидущие, ничего не прощают — ни красоты, ни богатства, могли и свечку поставить вверх ногамиили даже отчитать за упокой. Живую!
Зоечка так выразительно подняла брови, что они чуть не уехали на затылок, но Галина Петровна была все такая же снулая, будто вытащенная из воды большая, засыпающая рыба. Зоечка даже немного огорчилась — на свечку вверх ногами живо реагировали даже самые отпетые коммунисты. Так же равнодушна осталась Галина Петровна и к призывам Зоечки перетряхнуть подушки в поисках порчи, и к угрожающим историям об осколках зеркала, которые, будучи подложены в барахло доверчивых граждан, вызывали в их незащищенной жизни жутчайшие энергетические катаклизмы. Крестить младенчика, чтоб не заходился и лучше спал, она тоже не захотела.
Тогда уязвленная Зоечка вытянула из рукава самый заветный козырь, и Галина Петровна даже встала, громыхнув табуретом. Губы у нее дрогнули и порозовели, точно у сердечника, получившего наконец живительный вдох из кислородной подушки, коричневой, прорезиненной, запудренной тончайшим вонючим тальком.
— Вы правду говорите? — спросила она, вцепившись в Зоечку обеими руками.
— А какой мне резон врать? — возмутилась Зоечка, которая действительно не получала от своей бессмысленной деятельности никаких дивидентов, кроме морального удовлетворения.
— Честное ленинское дайте, — потребовала Галина Петровна самую страшную из известных ей клятв, заклятую, детскую, жуткую, родом из колодезных школьных дворов, запутанных игр и пионерских речевок.
— Честное ленинское, — отчеканила Зоечка и для верности перекрестилась.
Галина Петровна медленно кивнула. В детской надсадно заорал соскучившийся Борик, и тотчас над ним по-шмелиному загудел Николаич, верный ревнитель барского добра, считавший ребенка Линдта чем-то вроде нового имущества, хрупкого, надоедного, но для хозяев, очевидно, дорогого. Галина Петровна прислушалась к этому гудению и впервые на Зоечкиной памяти улыбнулась — детской, ясной, очень доверчивой улыбкой.