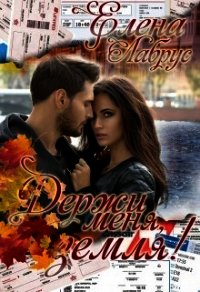Бог Мелочей - Рой Арундати (читаем книги онлайн .txt) 📗
Мышцы у него на животе были напряжены и рельефны, как дольки на плитке шоколада.
Он держал ее близко к себе при свете масляной лампы, и кожа его блестела, как дорогое полированное дерево.
Он мог делать только что-то одно.
Держал ее – целовать не мог. Целовал ее – видеть не мог. Видел ее – осязать не мог.
Она могла бы легонько потрогать пальцами его гладкую кожу и почувствовать, как по ней бегут мурашки. Она могла бы позволить пальцам скользнуть вниз по его худощавому животу. Беспечно вниз по рельефным шоколадным кряжам. Ведя по его телу линии пупырчатой гусиной кожи – как мелом плашмя по школьной доске, как порывом ветра по рисовому полю, как реактивным самолетиком по голубому церковному небу. Она могла бы с легкостью это сделать, но не стала. Он тоже мог бы ее потрогать. Но и он не стал, потому что во мраке, среди теней, куда почти не доходил свет масляной лампы, по кругу стояли складные металлические стулья, а на стульях сидели люди в раскосых темных очках со стразами, сидели и смотрели. У всех под подбородками были полированные скрипки, и все смычки замерли под одинаковым углом. Все закинули ногу на ногу, левую на правую, и все трясли левой ногой.
У одних были газеты. У других нет. Одни выдували слюну пузырями. Другие нет. Но у всех на стеклах очков мерцали отражения масляной лампы.
А дальше, за кругом складных стульев, был морской берег, заваленный осколками бутылок голубого стекла. Молчаливые волны выбрасывали и разбивали все новые голубые бутылки, а куски старых уволакивали обратным потоком. Слышалось зазубренное звяканье стекла о стекло. На скале, выхваченной из моря лиловым клином света, лежало плетеное кресло-качалка красного дерева. Разнесенное в щепу.
Море было черное, пена – рвотно-зеленая.
Рыбы глотали битое стекло.
Ночь облокотилась на воду; падающие звезды отскакивали от ломких водяных чешуек.
Небо освещали ночные бабочки. Луны не было.
Он мог плыть, гребя одной рукой. Она – двумя.
Кожа у него была солоноватая. У нее – тоже.
Он не оставлял ни следов на песке, ни ряби на воде, ни отражений в зеркалах.
Она могла бы потрогать его пальцами, но не стала. Они просто стояли близко, вплотную.
Неподвижно.
Соприкасаясь кожей.
Цветной рассыпчатый ветерок взметнул ей волосы и окутал ими, словно волнистой шалью, его безрукое плечо, кончавшееся внезапно, как утес.
Вдруг возникла тощая красная корова с костлявым тазом и поплыла прямо в море, не окуная рогов и не оглядываясь назад.
Амму поднималась вверх сквозь толщу сна на тяжелых, подрагивающих крыльях и остановилась передохнуть у самой поверхности.
На щеке у нее отпечатались розочки от вышитого синим крестиком покрывала.
Она ощущала нависшие над ее сном детские лица – две темные озабоченные луны ждали, когда их впустят.
– Ты правда думаешь, что она умирает? – услышала она шепот Рахели.
– Нет, это дневной кошмар, – ответил рассудительный Эста. – Ей много очень снов снится.
Трогал ее – говорить не мог, любил ее – отступиться не мог, говорил – слушать не мог, боролся – победить не мог.
Кто он был, этот однорукий человек? Кем он мог быть? Богом Утраты? Богом Мелочей? Богом Гусиной Кожи и Внезапных Улыбок? Богом Кислометаллических Запахов – как от стальных автобусных поручней и от ладоней кондуктора, который только что за них держался?
– Разбудим или не стоит? – спросил Эста.
Предвечерний свет, проникая сквозь щели в шторах тонкими ломтиками, падал на мандариновый транзистор Амму, который она всегда брала с собой на реку. (Такой же примерно формы была Вещь, которую Эста внес в «Звуки музыки», держа ее в липкой Той Руке.)
Солнце яркими полосками освещало спутанные волосы Амму. Она медлила под самой поверхностью сна, не желая впускать в него детей.
– Она говорила, если человеку снится сон, нельзя его резко будить, – сказала Рахель. – А то у него может быть Инфаркт.
Они решили не будить ее резко, а бережно потревожить. Поэтому стали выдвигать и задвигать ящики, покашливать, громко шептаться, мурлыкать песенку. Шаркать ногами. Потом обнаружили, что у одного платяного шкафа скрипучая дверца.
Амму, держась под поверхностью сна, видела их, и сердце у нее болело от любви к ним.
Однорукий человек задул свою лампу и пошел по зазубренному берегу, удаляясь среди теней, которые он один мог видеть.
Он не оставлял следов на песке.
Складные стулья были сложены. Черная морская вода разглажена. Морщины волн отутюжены. Пена возвращена в бутылку. Бутылка заткнута пробкой.
Ночь отложена до следующего раза.
Амму открыла глаза.
Далекий это был путь – из объятий однорукого человека к ее неодинаковым двуяйцовым близнецам.
– У тебя был дневной кошмар, – сообщила ей дочь.
– Не кошмар, – сказала Амму. – Это был сон.
– Эста решил, что ты умираешь.
– Ты была такая печальная, – сказал Эста.
– Я была счастлива, – сказала Амму и поняла, что действительно была.
– Амму, если ты была счастлива во сне, это считается? – спросил Эста.
– Что считается?
– Ну, счастье твое – считается?
Она очень хорошо его поняла, своего сына с испорченным зачесом.
Потому что, если по правде, считается только то, что считается.
Простая, непоколебимая мудрость детей.
Если ты во сне ела рыбу, считается это или нет? Значит ли это, что ты ела рыбу?
Приветливый, не оставляющий следов человек – считается он или нет?
Амму нащупала свой транзистор-мандарин и включила его. Передавали песню из фильма, который назывался «Креветки».
Это была история девушки из бедной семьи, которую насильно выдают замуж за рыбака с ближайшего берега, хотя она любит другого. Когда рыбак узнает, что у его молодой жены есть возлюбленный, он отправляется в море в своей утлой лодчонке, хотя видит, что надвигается шторм. Сгущается тьма, поднимается ветер. Океан закручивается водоворотом. Звучит бурная музыка, и рыбак тонет, вихрь засасывает его в морскую пучину.
Влюбленные решают вместе покончить с собой, и на следующее утро их крепко обнявшиеся тела находят выброшенными на берег. То есть умирают все. Рыбак, его жена, ее возлюбленный и акула, которая не играет важной роли в сюжете, но тем не менее гибнет. Море не щадит никого.
В синем сумраке, вышитом крестиком и отороченном полосками света, Амму с отпечатками розочек на сонной щеке и ее близнецы (прижавшиеся к ней с обеих сторон) мягко подпевали мандариновому радио. Это была песня, которую жены рыбаков пели печальной невесте, заплетая ей косы и готовя ее к свадьбе с человеком, которого она не любила.
Платьице Феи Аэропорта стояло на полу само собой, не падая из-за жесткой своей пышности. Снаружи, во дворе, рядами лежали и прожаривались на солнце свежевыстиранные сари. Кремовые с золотом. В их крахмальные складки забились крохотные камешки, которые надо будет вытрясти до того, как сари будут сложены и внесены в дом для утюжки.
В Эттумануре был кремирован убитый током слон (не Кочу Томбан). У обочины шоссе сложили гигантский погребальный костер. Инженеры муниципалитета отпилили бивни и негласно поделили кость между собой. Не поровну, а как надо. Чтобы лучше горело, на слона вылили восемьдесят банок чистого топленого масла. Дым поднимался плотными клубами и рисовал в небе прихотливые фигуры. Люди, столпившиеся на безопасном расстоянии, пытались их истолковать.