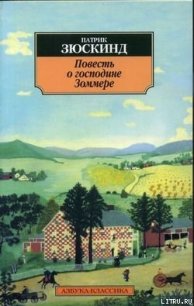Парфюмер. История одного убийцы - Зюскинд Патрик (читать книги онлайн полностью без сокращений TXT) 📗
Гренуй никак не отреагировал на приговор. Служащий суда спросил, есть ли у него последнее желание. «Нет», — сказал Гренуй; у него было все что нужно.
В камеру вошел священник, чтобы исповедовать Гренуя, но уже через четверть часа вышел оттуда, не выполнив своей миссии. Приговоренный при упоминании имени Господа взглянул на него абсолютно отрешенно, словно только что услышал это имя впервые, а потом растянулся на своих нарах, чтобы тотчас же погрузиться в глубочайший сон. Дальнейшие увещевания, сказал священник, не имели бы смысла.
В течение двух следующих дней приходило множество людей, чтобы поглядеть на знаменитого убийцу вблизи. Сторожа позволяли им заглянуть в камеру через глазок в двери, и за каждый взгляд брали шесть сольди. Один гравер по меди, который хотел сделать набросок, был вынужден заплатить им шесть франков. Но рисунок скорее разочаровывал. Заключенный, прикованный цепями за запястья и лодыжки, все время лежал на своих нарах и спал. Он отвернулся лицом к стене и не реагировал ни на стук, ни на окрики. Вход в камеру посетителям был строго воспрещен, и сторожа, несмотря на соблазнительные предложения, не рисковали нарушить этот запрет. Опасались, что заключенный может быть преждевременно убит кем-нибудь из близких его жертв. По той же причине ему не передавали от посетителей еды. Она могла бы оказаться отравленной.
Все время пребывания в тюрьме Гренуй получал еду из кухни для челяди епископского дворца, и главный надзиратель обязан был снимать с нее пробу. Впрочем, последние два дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали, и когда сторож кидался к глазку, он успевал увидеть, что Гренуй делал глоток из фляжки с водой, снова валился на нары и засыпал. Казалось, что человек этот так устал от своей жизни, что не желает проводить в состоянии бодрствования даже ее последние часы.
Между тем лобное место у заставы Дю-Кур было подготовлено для казни. Плотники сколотили эшафот двухметровой высоты, с трехметровыми сторонами помоста, с перилами и прочной лестницей — такого великолепного в Грасе еще никогда не бывало. Кроме того, они соорудили деревянную трибуну для почетных гостей и ограду, чтобы удерживать на расстоянии простонародье. Места у окон в домах слева и справа от заставы Дю-Кур и в здании городской стражи давно были сданы внаем по бешеным ценам. Даже в богадельне, расположенной несколько наискосок, подручный палача снял на время у больных их комнаты и с большой выгодой пересдал их любопытствующим взглянуть на казнь. Продавцы лимонада кувшинами запасали лакричную воду, гравер отпечатал несколько сотен экземпляров портрета убийцы, сделанного в тюрьме и весьма приукрашенного полетом фантазии, бродячие торговцы дюжинами стекались в город, пекари пекли памятные пряники.
Палач, мсье Папон, которому уже много лет не приходилось совершать казни через раздробление суставов, заказал у кузнеца тяжелый четырехгранный железный прут и ходил с ним на бойню, чтобы поупражняться в ударах на трупах животных. Он имел право нанести только двенадцать ударов, и этими двенадцатью ударами должны были быть наверняка раздроблены двенадцать суставов, но при этом не повреждены ценные части тела, например, грудь или голова — сложная задача, требовавшая величайшей чувствительности пальцев.
Жители города готовились к этому событию как к торжественному празднику. То, что день будет нерабочим, было понятно само собой. Женщины наглаживали свои воскресные наряды, мужчины выколачивали пыль из сюртуков и курток и до блеска начищали сапоги. Те, кто имел военный чин или занимал должность, был цеховым мастером, адвокатом, нотариусом, главой братства или еще чем-то значительным, надевал мундир или мантию, ордена, шарфы, цепи и белый как мел пудреный парик.
Верующие предполагали post festum [9] собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны — устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованная знать — отправиться на магнетические сеансы в отели Кабри, Вильнева и Фонтмишеля. В кухнях уже вовсю пекли и жарили, из подвалов несли вино, с рынков — цветы для украшения столов, в соборе репетировали органист и церковный хор.
В доме Риши на улице Друат было тихо. Риши запретил себе всякую подготовку ко Дню освобождения, как назвали в народе день казни. Ему все было отвратительно. Отвратителен внезапно воскресший ужас людей, отвратительно их лихорадочное предвкушение радости. И сами они, эти люди, все вместе, были ему отвратительны. Он не участвовал ни в представлении преступника и его жертв на соборной площади, ни в процессе, ни в омерзительном променаде зевак перед камерой осужденного. Для опознания волос и платья своей дочери он пригласил членов суда к себе домой, кратко и сдержанно дал свои показания и попросил оставить ему эти вещи в качестве реликвий, что и было сделано. Он отнес их в горницу Лауры, положил разрезанную ночную рубашку и нижнюю сорочку на ее кровать, распустил по подушке ее рыжие волосы, сел перед кроватью и больше не отходил от нее, словно эта бессменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в Ла Напули. Он был так полон отвращения, отвращения к миру и к самому себе, что не мог плакать. И к убийце он испытывал отвращение. Он не желал больше видеть в нем человека, но только жертву, обреченную на заклание. Он увидит его только в момент казни, когда тот будет лежать на кресте и на него обрушатся двенадцать ударов, вот когда он его увидит, увидит его совсем вблизи, он оставил за собой место в самом первом ряду. И когда народ разойдется, через несколько часов, тогда он поднимется к нему на окровавленный эшафот, и сядет рядом, и будет нести вахту целыми днями и ночами, если понадобится, и смотреть ему в глаза, этому убийце своей дочери, и по капле будет вливать в его агонию все свое отвращение как едкую кислоту, пока эта гадина не сдохнет…
А потом? Что он сделает поток? Он не знал этого. Может быть, он вернется к привычной жизни, может быть, женится, может быть, зачнет сына, может быть, не сделает ничего, может быть, умрет. Ему это было совершенно безразлично. Думать об этом казалось ему столь же бессмысленным, как думать о том, что делать после смерти: разумеется, ничего, о чем он мог бы знать уже теперь.
49
Казнь была назначена на пять часов пополудни. Уже утром пришли первые любители зрелищ и обеспечили себе места. Они принесли с собой стулья и скамейки, подушки для сиденья, провизию, вино и привели своих детей. Когда ближе к полудню со всех сторон к городу начали стекаться толпы сельского люда, на площади у заставы Дю-Кур уже было так тесно, что новоприбывшим пришлось располагаться на полях и в садах, разбитых террасами на склонах плато, и вдоль дороги на Гренобль. Бродячие торговцы уже развернулись вовсю, люди ели, пили, кругом стоял шум и смрад, как на ярмарке. Вскоре собралось тысяч десять народу, больше чем на праздник Королевы Жасмина, больше чем на самый большой крестный ход, больше чем когда-либо вообще собиралось в Грасе. Люди усыпали все склоны. Они залезали на деревья, они карабкались на стены и крыши, они десятками, дюжинами теснились в проемах окон. Лишь в центре площади, за барьером ограждения, словно вырезанное ножом из теста человеческой толпы, еще оставалось свободное место для трибуны и эшафота, который вдруг стал совсем маленьким, как игрушка или сцена кукольного театра. И еще оставался свободным узкий проход от места казни к заставе Дю-Кур и на улице Друат.
Примерно в три часа появились мсье Папон и его подручные. Их встретили одобрительным гулом. Они подтащили к эшафоту сбитый из бревен крест и установили его на четырех тяжелых плотницких козлах, подобрав подходящую для работы высоту. Подмастерье плотника прибил его к козлам. Каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами. А когда после этого к эшафоту приблизился Папон с железным прутом, обошел крест со всех сторон, отмерил число своих шагов и стал то с одной, то с другой стороны наносить воображаемые удары, разразилась настоящая овация.
9
После праздника (лат.)