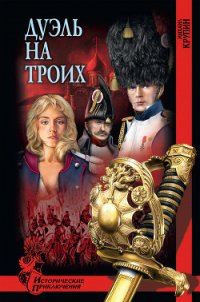Житие Ванюшки Мурзина или любовь в Старо-Короткине - Липатов Виль Владимирович (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
– Костя, а нельзя ли палить в бабушкиной комнате? Сильно плохую художественную самодеятельность устраивал Ванюшка, такую плохую, что даже на районном смотре – последнее место. Встал, подошел к окну, потянулся, покряхтел: дескать, с дороги притомился… А жена спокойно продолжала:
– Я тут на днях с Филаретовым Александром Александровичем разговаривала – на редкость умный и тактичный человек. – Она простенько улыбнулась. – Порядочный, честный и верный человек! Любит жену… Вот так, Иван, любит… И знает… Ты садись, Иван, садись, чего на ногах торчать. И давай, Иван, не откладывать, ни на секунду не откладывать! – Прижала руки к груди, стиснула. – Не могу смотреть на тебя, видеть не могу, как ты трусишь, виляешь, в глаза глядеть боишься – очень уж ты мне вдруг одного полярника напомнил… Но тот трус, а ты – ты крупный, ты большой человек! Реветь хочется, на тебя глядючи, от стыда сгорю… Иван, не будем откладывать.
. Иван сел, посмотрел Насте прямо в зрачки и подумал: «Он был титулярный советник, она генеральская дочь…» Уйдет от него Настя, уведет Костю на веки вечные; характера у жены – на трех генералов и одного старшину.
– Говори! – попросил Иван. Настя сказала:
– Сплетням не верю. Не верю! Тебе нечего бояться. Ты ведь потому труса празднуешь, что думаешь: поверю клевете. Да что ты, Иван, бог с тобой! Люблю, и ты меня любишь…
Через коридорчик и две комнаты слышался треск автомата. Стрельба шла одиночными, видимо, уничтожали остатки вражеского наступления, самую трусливую шухру-мухру, и при этом кричали про то, что, дескать, наше дело правое, мы победим. Костя на чалдонском вопил: «Кладись помирать, гада паршивая! Приникни!» Голос басовитый…
– Сплетни правильные, – сказал Иван. – Не врет деревня. Ты это дело, Настя, обдумай, а я в дальней комнате полежу маленько. Сильно притомился…
«Он был титулярный советник, она генеральская дочь…» – пел про себя Иван, уходя в дальнюю комнату, в которой прожил всю жизнь до женитьбы на Насте Поспеловой.
12
Не врал Иван, что устал, измотался от любви и науки, так как через полчаса незаметно уснул, точно канул в Обишку. Сколько спал, какие сны видел – неизвестно было в ту минуту, когда проснулся от страшного грохота, треска, плача и крика. Что такое? Ого-го! На глазах у Ивана дверь, в щепу разбитая у косяка, распахнулась, сотрясая весь дом, и с топором в руках ворвалась знатная телятница Прасковья, за ней – кричащая жена Настя, за ней – ревущий белугой Костя с автоматом.
– Сыночек! Живой! Родненький мой!
– Папа, папулечка, пап!
– Сыночек, кровиночка, чего же ты дверь-то запер на крючок? Закрючился-то зачем?
Нет, а серьезно, почему это он, Иван Мурзин, крючками никогда не пользовавшийся, взял да и закрючился? В жизни с ним такого не бывало, и дурачку понятно, что мать плохое подумает, зная и про гостиницу «Сибирь», и про разговор с Настей, и про то, как любит он заразу Любку Ненашеву. Отравился? Завесился? Охотничьим ножом перехватил горло?
Мать подступила вплотную, стиснув руками лицо сына, крикнула:
– Ты чего выпил? Ты чего проглотил? Говори! Настя, бегом за доктором! Тьфу! Звони доктору… Скорее звони, не торчи оглоблей!
– Мамуха! – тоже закричал Иван. – Ничего я не пил, не проглатывал! Сдурели вы разом, что ли? Костю травмируете. – И метнулся к зеркалу. – Ого! Вот это морда… Вот это заспался!
Страшненькое увидел Иван в зеркале – пропащее лицо. Глаза ввалились, скулы острые, зубы обтянуты губами и полуоткрыты, зрачков как бы нет, они как бы заняли все глаза. Картина правильная для родни: проглотил или выпил яд-отраву, наложил на себя три креста, чтобы покончить наконец с этими разными Любками Ненашевыми, Иринами Тихоновнами…
Но вот вопрос; почему закрючился? «Обратно зараза Любка виновата! – как бы шутил он про себя. – Войдешь в номер «люкс» – она уже шипит, чтобы закрючивался. Вот и поимел привычку…»
Иван посмотрел на родню: отходили понемногу. Костя стрельбу прекратил, мать работяще вытирала глаза. А жена Настя, которой известна вся правда, – как она себя чувствует? Начала уже собирать вещи, чтобы вернуться в замечательный город Ленинград, или приняла другое оперативное решение? Вопрос важный. Он сказал:
– Вот, мам, чудо: научился закрючиваться! Высшее образование получаю…
Часа через четыре, расправившись с Костей, то есть отослав его спать, ужинали на кухне, по-домашнему, как захотела мать, чтобы подольше посидеть возле спасенного сыночка и чтобы дождаться того момента, когда сыночек уйдет спать в мире и согласии с женой.
– Я, конечно, сильно и даже шибко сильно извиняюсь, – сказала мать, – но ежели ты, Настеха, да ты, Иван, маненько разговор серьезный дозволите, то я бы слово сказала… Еще раз извиняюсь.
Какие грехи совершила Настя Поспелова – умница, красавица, спортсменка, – чтобы жизнь с ней расправлялась жестоко, как повар с картошкой? Другая, как говорится, ни кожи ни рожи, а живет с мужем счастливо, крепко, прочно, будто за каменной стеной, уверенная, что ее муж будет хорошим дедом, а Настя вперед на день заглядывать не смеет. Это жизнь?!
– Я хочу разговаривать, мам, – с опущенной головой проговорил Иван. – Если Настя захочет…
Бледная и прямая, Настя быстро сказала:
– Я хочу.
– Так ты и начни! – тихо обрадовалась мать. – Начни, начни, невестушка моя хорошая. Иван подождет, я перегожу…
Мать и жена давно спелись: вместе ждали Ивана из армии, все делили половинка на половинку, и оказалось, что старо-короткинская телятница, говорящая по-чалдонски, и генеральская дочь из Питера сделались родными.
– Мне лестно, Прасковья Ильинична, что Иван не врет, – сказала Настя. – Он сильный, мне нравится, что он сильный. – Она молчала, пока муж не поднял голову. – Ну-с, а теперь о минусах… У Мурзиных принято шутить, веселиться. О тяжелом – весело, о веселом – серьезно. Так? Я успела стать Мурзиной?
Иван и мать притихли.
– Жалко, что пароход «Пролетарий» не ходит, – продолжала Настя, – жаль, что придется нам с Костей самолетом лететь, так и не увидев на прощание реку. – Усмехнулась. – Телефонизация деревни – это хорошее дело! Я билеты по телефону на завтра заказала, последним рейсом.
Спокойная, прямая, веселенькая – настоящая мурзинская кровь!
– Бона что! – сказала мать. – Пуржишша за оконцем притихает… Настя?
– Да, Прасковья Ильинична?
– А ты не торопишься? – заговорила знатная телятница, переходя на язык районной газеты «Советский Север». – Ты, может, решение приняла в предельно сжатые сроки? День только закончился, а ты даешь готовое решение… – Она поднялась, сунула руки в карманы, тоже прямая да моложавая, начальничьим шагом прошлась по большой кухне. – Я тоже от Василия уезжала. Два раза. Такой же был влюбчивый, как его семя. – Мать остановилась шагать. – Иван не знает даже, деревня случайно забыла. Сейчас скажу. – Мать передохнула. – Он Марию Сопрыкину, мать Любки Ненашевой, любил. Она дочери три очка вперед давала, такая была влюбляющая. Мать снова пошла по кухне начальником.
– Полдеревни мужиков дохли, чтобы Марию в чащу уволочь, а Василий влюбился по-человечески. Ванюшка, не обижайся, но я хотела твоего отца Марии отдать. Любила ведь и она Василия. Это я точно знала, видела. И велела Василию: «Уходи!» Я точно как ты, Настя, думала, что за любовь отдают, и оно правильно, если по-людски рассуждать. Однако есть и другая правда, тоже правдивая.
Знатная телятница, Герой Труда остановилась, оперлась спиной о печку, раскрашенную по-украински петухами.
– Представить не могу, как Иван оказался бы безотцовщиной. Любовь – дети от нее рождаются. А сиротами остаются – тоже от любви? Не нравится мне это. О-о-о-чень не нравится. Отдельная от детей – не настоящая любовь. Не жизненная, потому – какая ж это жизнь без детей?! Я тоже раза три влюблялась, да еще как – стружки летели! Бегала в синий ельник, на сеновалы лазила. Живая была и, простите за нескромность, горячая. Про одну любовь, еще до войны, Василий все в точности узнал… Вот так. Ну он тогда на меня рукой махнул, плюнул да ногой растер. Ничего не замечает вроде, не слышит ничего. Свободна, мол, на все четыре стороны. Я и опамятовалась: ведь люблю Василия, одного его люблю! Блажь-то проходит, а жизнь – одна.