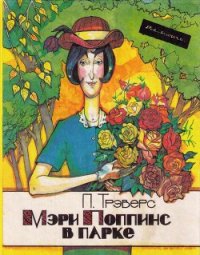Укрытие - Адзопарди Трецца (книги онлайн полные версии бесплатно .txt) 📗
Пять девочек, потом шестая, а потом пожар, и я обгорела.
Тебя же спасли! — гордо заявил он.
Я обгорела, а потом… все пошло не так.
Твой отец, он сбежал. Я все об этом знаю.
Он описывал события, о которых ему только рассказывали, и руки его летали в воздухе. Это были замечательные истории — о роковом кольце, о кровавой вражде, о проданной дочери.
Это место — оно как отдельный мир, да? — сказал он, хлопнув ладошами — словно мотылька поймал. И мама не хотела, чтобы мы знали. Она отправила нас в частную школу. Но люди кругом, — он выпустил воображаемого мотылька на волю. Они нас знают. Разговоры все равно слышишь. Когда папа умер, она все рвалась уехать отсюда, но Джамбо говорит…
Когда умер ваш папа? — спросила я.
Скоро уже два года. Работал до последнего. И Джамбо с ним. Динамичная получилась парочка!
Луис остановился. В его словах была горечь, которая досказала мне все остальное: про то, как Селеста прожила здесь все эти годы, а сплетни никуда не исчезали, они лишь менялись с годами. Пожар — это адский пламень, сожженная рука — роман ужасов, а разборка между двумя старинными приятелями — убийство. Неудивительно, что она не хотела говорить о прошлом. Мои воспоминания по сравнению с этим скучны и убоги. Но Луис — он как я, хочет во всем разобраться. И я за это уцепилась; я рассказала ему о том, о чем не могла бы рассказать сестрам: об отчужденности Селесты, о мелкой жестокости Розы и Люки, о доброте Фрэн. Как она лежала в темноте и протягивала мне руку. Как стояла в тусклом предутреннем свете, худенькая, ссутулившаяся, молча складывала мокрые простыни, и от нее веяло такой тоской… Рассказала я и про костры, про камешки-стекляшки, про татуировки.
Луис прищурился.
Фрэн, сказал он. Фрэн… Сколько бы ей сейчас было?
Мне не надо ничего высчитывать.
Сорок пять.
И ты не знаешь, где она? — спросил он.
Понятия не имею.
Я могу порасспрашивать. Я знаю кое-кого из старой гвардии.
И вдруг, словно вспомнив что-то, широко улыбнулся.
Тетя Дол, глянь-ка.
Он расстегнул рубашку. Показал татуировку на груди — дракона. Не понимаю, как это кто-то добровольно хочет себя калечить, но Луису это нравилось.
У Фрэн было написано ее имя — вот здесь, сказала я, вытянув правую руку. А здесь — я показала левую — распятие.
Домашнего изготовления, да? — сказал он, беря меня за левое запястье. Смысл получился двойной, и мы засмеялись. Он не выпускал мою руку, и я ее не отнимала.
Ты придешь на похороны, Луис? — спросила я.
Он посмотрел непонимающе. Значит, Селеста и этим ни с кем не поделилась.
На похороны нашей мамы — твоей бабушки. Завтра.
Как это? — сказал он. Как это?
Он наклонил голову — как голубь, высматривающий крошку. Он думал, он решал.
Приду, сказал он. Мы все придем.
И он взял меня под локоть.
Ну, вот почти и пришли, тетушка, сказал он и снова улыбнулся во весь рот. Не так уж и страшно, а?
Я разрешила ему довести меня только до угла. Он не хотел уходить, все оборачивался, а я махала ему рукой.
Точно дойдешь? — кричал он. Точно? Я ведь могу пригодиться. Мало ли что.
Селеста не хотела бы пускать его в дом. И я не знала, как бы прореагировала Роза.
Она стоит на коленях посреди комнаты, кругом мешки, детские вещи, туфли, вешалки — две огромные кучи. Как на благотворительном базаре. Из-под кровати торчат серые лапы пса; он лежит там трупом. Роза поднимает на меня глаза — вид у нее виноватый, смущенный, словно я поймала ее на чем-то постыдном. От нее пахнет потом, на лбу грязные подтеки. И лицо как у маленькой девочки.
Я весь день это разбирала, говорит она, разглядывая свои руки. И протягивает мне ладони — кончики пальцев измазаны типографской краской.
В основном один хлам. Я это выставлю мусорщикам.
Я ходила к Еве, говорю я. А еще встретила Селесту с сыновьями.
Она психованная, бормочет Роза.
Про кого она — я не понимаю.
Ты знала, что отца разыскивали за убийство? — спрашиваю я. Теперь мы с ней равны. На этот раз ей не отвертеться.
А как же, говорит она, сваливая часть кучи в мешок. Еще — за изнасилование, разбой и грабеж средь бела дня. Я ничего не упустила? Ты уж подскажи — она наклоняется ко мне, продолжает нарочито высоким голосом: — Я внесу в список.
Роза, я не шучу.
Нет. Ты у нас такая доверчивая. Все примешь за чистую монету.
Она снова садится на корточки. Солнце скрылось; лицо ее в полумраке отливает синевой.
Людей за что только не обвиняют. Чулок порвался? Гаучи виноваты! Ноготь сломался? Опять эти Гаучи! Он, Дол, много чего плохого сделал, говорит она, сгребая с пола ремни и вешалки. Бил нас до полусмерти, оставил без гроша, в конце концов просто слинял. И это, по моему глубокому убеждению, худшее из преступлений.
Она запихивает вещи в мешки, наваливается на них, чтобы утрамбовать.
Незачем ходить выяснять, что он такого натворил, Дол. Все это вот туточки.
Она завязывает на мешке узел.
А ты, Шерлок, этого до сих пор не понял?
И Роза рассказывает, как нашла его ремень. Больше она ничем делиться не готова. Я этого не помню, но, когда ее слушаю, в животе у меня что-то переворачивается. Что-то мокрое и скользкое.
А вот это, я думаю, тебя заинтересует. Или тоже выбросить?
На линолеуме груда фотографий. Я наклоняюсь рассмотреть их: маленькая Селеста, бесконечные мужчины в костюмах, улыбающиеся женщины. Четыре ребенка сидят рядком на диване. Наши имена написаны ручкой — Роза, Люка, Фрэн, Дол — и стрелочки к каждой.
Наверное, чтобы она не забыла, говорит Роза.
Меня больше всего интересует Фрэн. Она сидит, обняв меня за плечи, а глаза получились смазанные — моргнула не вовремя. Тоненькая прядь волос в углу рта, а рот приоткрыт — она что-то говорит. Не помню что. Наверное, шутит. Чтобы я улыбнулась в камеру.
На полу рядом с Розой лежит открытая мамина сумка. Из ее недр вываливаются другие истории: пожелтевший газетный снимок, на котором двое мужчин; детские четки, потемневшие от времени; выщербленные игральные кости. Мне это ничего не говорит. Старые рецепты блюд, которых я никогда не пробовала. Рождественские открытки от людей, которых я не знала. Про Фрэн больше ничего.
Вот, говорит Роза, наклоняясь к груде снимков. Ты здесь хорошо вышла.
Сквозь трещины на фотографии проглядывает кремовая бумага. Края обтрепались — ее часто рассматривали. Две маленькие девочки. На старшей застегнутый на все пуговицы клеенчатый плащик с белой отделкой, воротник завернут, словно ее одевали второпях. Хоть фотография и черно-белая, сразу понятно, что волосы у нее рыжие — они реют вокруг головы огненными язычками. Через плечо у нее замшевая сумка, она вцепилась в замочек, сурово смотрит в объектив. Похожа на кондуктора в автобусе. Не забудьте оплатить проезд!
Малышка с ней рядом плачет, вскинув вверх кулачки. Я даже не сразу понимаю, что это я. Я внимательно изучаю снимок, подношу его так близко к глазам, что крохотная левая ручка расплывается в белое пятно. На обороте нервным маминым почерком написано:
Люка, 2 года с Деллорес, Дорлорес, Долорес, 3 нед.
Мое имя дважды перечеркнуто и всякий раз написано по-другому, словно она еще не привыкла к новому ребенку.
Это я, говорю я Розе.
Ага, усмехается она. Целиком и полностью.
Фантомная боль возвращается. Я никогда раньше не видела своей руки.
Восемнадцать
В кино похороны обычно проходят на утопающем в зелени кладбище, под сенью старых деревьев. И обязательно идет дождь. Камера дает крупным планом листву или расплывчато ствол дерева, а затем отъезжает, чтобы показать фигуру в черном, стоящую поодаль от остальных скорбящих. Если это мужчина, то он медленно затягивается сигаретой, если женщина, то руки у нее прижаты к груди, а на вуали поблескивают капли дождя. Когда я бреду по грязной тропинке, которая выведет к маминой могиле, мне вдруг приходит в голову, что я никогда прежде не бывала на похоронах. Наверное, мне везло.