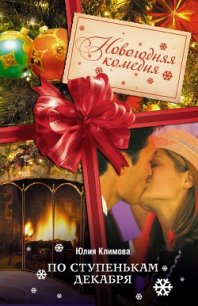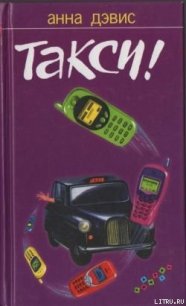Глазами клоуна - Бёлль Генрих (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Я глотнул коньяку из бутылки, снова сунул ее в карман и ощупал колено. Когда я лежал, оно болело меньше. Если вести себя разумно, собраться с мыслями, опухоль спадет, боль стихнет. Можно будет достать пустой ящик из-под апельсинов, сесть у вокзала и, подыгрывая на гитаре, петь акафист пресвятой деве. Я положу – как бы случайно – свою шляпу или кепку рядом на ступеньки, и стоит только кому-нибудь сообразить и что-то туда бросить, как другие тоже возьмут с него пример. Деньги мне были необходимы, хотя бы потому, что кончились сигареты. Лучше всего было бы положить в шапку грош и пару пятипфенниговых монет. Наверно, Лео принесет мне хоть такую малость. Я уже ясно представил себе, как я там сижу: белое лицо на темном фоне вокзала, голубая рубашка, черная куртка и зеленые вельветовые брюки, – и тут я «зачинаю», под аккомпанемент вокзального шума: "Rosa mystica – ora pro nobis – turris Davidica – ora pro nobis – virgo fidelis – ora pro nobis [10], и я просижу там, пока не придет поезд из Рима и моя coniux infidelis [11] не прибудет со своим католическим мужем. Должно быть, их венчание вызвало целый ряд неприятных осложнений. Мари не была вдовой, она и не разведенная жена, она – и это я случайно знал достоверно – уже не девушка. Зоммервильд, наверно, рвал на себе волосы – венчание без фаты портило ему всю эстетическую концепцию. А может быть, у них есть особые литургические каноны для падших дев и бывших наложниц клоунов? О чем думал епископ, совершая обряд венчания? Меньше чем на епископа они наверняка не согласились бы. Один раз Мари затащила меня на епископскую службу, и на меня произвела огромное впечатление вся эта церемония: снять митру – надеть митру, надеть белую перевязь – снять белую перевязь, епископский посох туда – потом сюда, повязать красную перевязь – снять белую; моей «утонченной артистической натуре» очень близка эстетика повторов. Тут я стал обдумывать свою пантомиму с ключами. Можно было взять пластилин, сделать в нем оттиск ключа, налить воды в форму и заморозить в холодильнике; наверно, можно достать маленький портативный холодильничек, тогда я смог бы каждый вечер делать несколько ключей перед выступлением, на котором эти ключи будут постепенно таять. Может быть, эта выдумка и осуществима, но на данный момент я ее оставил – слишком уж все это сложно, мне придется зависеть от слишком большого реквизита, от множества технических неполадок, а если к тому же какой-нибудь из рабочих сцены на военной службе был обманут моим земляком с Рейна, он еще, чего доброго, выключит мой холодильничек и сорвет весь номер. Нет, вторая выдумка лучше: усесться на ступеньки боннского вокзала таким, как я есть, без грима, только с набеленным лицом, и петь акафисты, подыгрывая себе на гитаре. Рядом – шляпа, я ее надевал, имитируя Чаплина, вот только монет для приманки не хватило, хорошо бы положить туда десять пфеннигов, еще лучше – десять и пять пфеннигов, а самое лучшее три монетки – десять, пять и два пфеннига. Пусть люди видят, что я не какой-нибудь религиозный фанатик, который гнушается малой лептой, пусть видят, что каждое даяние – благо, даже медный грошик. А потом я подложу и серебряную монетку, для ясности, пусть видят, что я не только не гнушаюсь крупной лептой, но и получаю ее. Я и сигаретку положу в шляпу, большинству людей легче открыть портсигар, чем кошелек. Конечно, потом обязательно появится какой-нибудь защитник моральных устоев, потребует разрешение петь на улицах или какой-нибудь представитель главного комитета по борьбе с богохульством подвергнет сомнению религиозную ценность моей интерпретации. На тот случай, что у меня могут спросить документы, я всегда буду держать наготове брикет угля с рекламой, известной каждому ребенку: «Шнир тебя согреет», я обведу черную надпись «Шнир» красным мелком, может, даже пририсую свой инициал «Г». Довольно громоздкая визитная карточка, зато выразительно и ясно: разрешите представиться – Шнир. В одном отец мог бы мне помочь, ему это даже ничего и не стоило бы. Он мог бы мне достать лицензию уличного певца. Ему стоило только позвонить обер-бургомистру или попросить его об этом в Коммерческом клубе, за партией ската. Это одолжение он мог бы мне сделать. Тогда я смогу спокойно сидеть на ступеньках вокзала и ждать прихода римского поезда. И если Мари сможет заставить себя пройти мимо и не обнять меня, то еще останется самоубийство. Но не сейчас. Я не решался думать о самоубийстве по одной причине, хотя, может быть, это покажется слишком самоуверенным: я хотел сохранить себя для Мари. Ведь она может расстаться с Цюпфнером, и тогда наше положение будет идеальным повторением истории с Безевицем: церковный развод с Цюпфнером для нее невозможен, и она навеки сможет остаться моей «наложницей». И мне надо будет только обратить на себя внимание телевизионщиков, завоевать новую славу, и тогда церковь закроет на все это глаза. Мне-то вовсе не требуется церковный брак с Мари, поэтому им не придется даже заводить для меня старую волынку про Генриха Восьмого.
Я чувствовал себя значительно лучше. Колено опало, боль стихла, остались только мигрень и меланхолия, но мне они привычны, как мысль о смерти. У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера. Я даже точно знаю, что будет после моей смерти: от фамильной усыпальницы Шниров я не избавлюсь. Мать будет рыдать и уверять всех, что она одна меня понимала. После моей смерти она обязательно всем станет рассказывать, «каким был наш Ганс на самом деле». На сегодня и, должно быть, на веки веков она твердо уверена, что я – человек «чувственный» и к тому же «корыстный». Она скажет: «Да, наш Ганс, он был такой способный, но, к сожалению, очень чувственный и корыстный и, к сожалению, совершенно недисциплинированный, но очень способный, очень!» А Зоммервильд скажет: «Да, наш Шнир – чудо, чудо! К сожалению, в нем жили неискоренимые антиклерикальные предрассудки и полное непонимание метафизики». Блотерт – тот будет жалеть, что вовремя не провели закон о смертной казни, тогда можно было бы публично казнить меня. Для Фредебойля я буду «незаменимым образцом» человека, лишенного «каких бы то ни было социологических концепций». А Кинкель заплачет, искренне и горячо, потрясенный до глубины души, но уже будет поздно. Моника Сильвс будет всхлипывать, словно она – моя вдова, и раскаиваться, что сразу не пошла ко мне, не сделала мне омлетик. Одна Мари просто не поверит, что я умер, – она уйдет от Цюпфнера и станет ездить из отеля в отель и везде спрашивать обо мне, но напрасно.
Отец мой до конца просмакует всю эту трагедию, полный раскаяния, что он, уходя от меня, не оставил мне хотя бы две-три бумажки в прихожей. Карл и Сабина будут плакать без всякого удержу, оскорбляя эстетические чувства всех присутствующих на похоронах. Сабина тайком запустит руку в карман пальто Карла, она вечно забывает носовой платок. Эдгар из чувства долга будет сдерживать слезы и, может быть, после похорон пройдет по дорожке для стометровки в нашем парке, потом один вернется на кладбище и положит большой букет роз у мраморной плиты с именем Генриетты. Никто, кроме меня, не знает, что он был влюблен в нее, никто не знает, что на конвертах, которые я сжег, вместо фамилии отправителя стояли инициалы Э. В. И еще одну тайну я унесу с собой в могилу: однажды я наблюдал, как мама в подвале тайком пробралась в кладовую с продуктами, отрезала себе толстый ломоть ветчины и съела его там же, внизу, торопливо разрывая пальцами, – и выглядело это не очень противно, только неожиданно, я был скорее тронут, чем возмущен. Я спустился в подвал, чтобы поискать в сундуке старые теннисные мячики, ходить туда нам было запрещено, и, услыхав ее шаги, я потушил свет, но видел, как она сняла с полки банку яблочного повидла, потом поставила на место, видел, как ее локоть двигался, когда она что-то резала, и как она стала запихивать себе в рот куски ветчины. Этого я никому не рассказывал и не расскажу. Моя тайна будет покоиться со мной под мраморной плитой шнировского мавзолея. Как ни странно, но я хорошо отношусь к существам моей породы – к людям. И когда умирает кто-нибудь из нашей породы, мне грустно. Даже над гробом матери я, наверно, заплакал бы. А над могилой старика Деркума я просто не мог прийти в себя: все кидал и кидал лопатой землю на голые доски гроба, сзади кто-то шептал, что так не полагается, а я все кидал и кидал, пока Мари не отняла у меня лопату. Я не хотел смотреть ни на лавку, ни на дом, не хотел ничего брать на память. Мари отнеслась к его смерти трезво: она продала лавку и отложила деньги «для наших будущих детей».
[10] Мистическая роза – молись о нас – твердыня Давидова – молись о нас – верная дева – молись о нас (лат.).
[11] Неверная супруга (лат.).