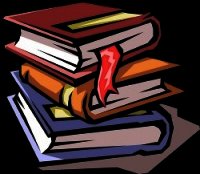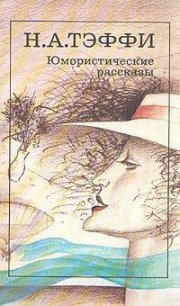Город и сны. Книга прозы - Хазанов Борис (книга регистрации TXT) 📗
Я попросил старика заглянуть ко мне попозже, и процессия двинулась в обратный путь.
После обеда он вошел в кабинет.
«Ага. Присаживайтесь. Ну-с… как вы находите маму?»
Он пожал плечами.
"Мы считаем, что налицо определенный прогресс, — сказал я, употребляя первое лицо множественного числа, которое в грамматике именуется pluralis majestatisи принято в обращениях царствующих особ к народу, в России же используется, когда хотят сложить с себя ответственность за предстоящее. — Не правда ли?" — спросил я у палатного врача.
«Безусловно».
«Ну вот и прекрасно. Видите ли, какое дело… Мы хотели с вами поговорить».
«О чем?» — спросил старик.
«Ваша мама находится у нас уже четыре месяца».
«Три с половиной».
«Не будем спорить. За это время достигнут определенный прогресс. Во всяком случае, состояние стабилизировалось… Вот мы и подумали, что, может быть, уже пора выписываться. Как вы считаете?»
Практика выработала у родственников сложные приемы самозащиты. Ни в коем случае не спорить. Во всем соглашаться с врачами. Долго и трогательно благодарить за заботу. Нигде, ни в одной больнице, не было такого внимательного ухода, такого квалифицированного лечения. Конечно, мы обязательно возьмем маму, тетю, бабушку. Но не сейчас. Нельзя ли продлить лечение хотя бы дней на десять? Так сказать, закрепить результаты. — Но позвольте. Больная не нуждается в лечении, только в уходе. — Значит, нам нужно кого-то подыскать. — Вот и ищите. Сами видите, отделение переполнено, больные лежат в коридоре. Настоящие больные. — А разве мама не настоящая больная? — Помилуйте, четыре месяца! — Три с половиной. — Ладно, не будем спорить. Итак?…— Что, итак? — И разговор, похожий на торговлю, начинается сызнова.
Вместо этого старик сказал:
«Я ее не возьму».
«Как это — не возьму?»
«А вот так».
«Но вы же прекрасно понимаете, что…»
«Прекрасно понимаю».
«Ведь она вам мать! Вы что же, от нее отказываетесь? Тогда устраивайте ее в дом престарелых».
«Куда?» — спросил он.
«В дом престарелых!»
Некоторое время мы изучали друг друга.
«Мне восемьдесят два года, — сказал он. — Тем не менее я слышу достаточно хорошо. Поэтому повышать голос нет надобности. Если бы я хотел отказаться от мамы, вы бы меня здесь больше не видели. Ваши сестры и няньки давно уже к ней не подходят. Я сам все делаю. Стираю белье, привожу каждый день чистое, перестилаю кровать, кормлю. И буду так делать и дальше. Но взять ее домой — нет. Что я буду с ней делать? У меня никого больше нет. Мы там с ней помрем. А что касается дома престарелых… Вы, я думаю, хорошо знаете, что попасть туда невозможно. Обивать пороги учреждений я не в состоянии. Но даже если бы это и было возможно. Все, что угодно, но только не дом престарелых. Можете на меня жаловаться куда хотите».
Старость — это искусство делать вид, что смерти не существует. В юности время работает на нас. Старик знает: время работает против него. Что бы ни случилось, при любой погоде и любом правительстве — время работает против него. Он, как путешественник в шатком и тряском экипаже, который несется к обрыву, но остановить лошадей нельзя и выпрыгнуть невозможно. И он смотрит по сторонам, любуется ландшафтом.
Свободный человек Спинозы взирает на вещи с точки зрения вечности. Его цель — не плакать и не смеяться, а понимать. Свободный человек, сказано в «Этике», ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит не в размышлении, но в размышлении о жизни.
Мы должны снова перевести стрелки назад, когда славные изречения были всего лишь грамматическими конструкциями, когда согласование времен подчинялось твердым правилам, прошедшее не имело никаких преимуществ перед настоящим и будущим и вечность классических текстов торжествовала победу над бренностью жизни.
Нам не приходило в голову, что молодость должна распрощаться с собой, чтобы обрести голос, который будет звучать века. Мы не задумывались над тем, что Ксенофонт, автор «Анабасиса» — первых, быть может, в истории литературы воспоминаний — был немолод, как и подобает мемуаристу, и воображали его молодцом на коне, в сверкающем панцире, а не старым хрычом в элидском изгнании. Вместе с ним мы отправились в путь, еще не зная о том, что персидский царевич замыслил отнять у старшего брата престол. В решающем сражении мы одержали победу, мы видели, как царевич с шестьюстами всадниками гнался за бегущей армией Артаксеркса, слышали, как Кир закричал: «Вон он, я его вижу!» И пробил копьем золотой нагрудник брата, но в следующую минуту сам получил удар в лицо. Артапат, подлетев на всем скаку, спрыгнул с коня и, плача, упал на тело мертвого Кира. А мы, десять тысяч наемников, остались без цели в чужой стране с суровым климатом, без припасов, не зная, куда нам двинуться, и Ксенофонт, вчерашний солдат, повел нас сквозь дебри к родному, далекому морю.
Мы не догадывались, что остраненность рассказа, бесстрастие автора, повествующего о себе в третьем лице, — примечательная находка, литературный прием старости.
Наш доцент отличал меня, могу сейчас сказать — любил почти как сына, вернее, как внука, и я беззастенчиво злоупотреблял его привязанностью, опаздывал на занятия. Все уже сидели на своих местах в нетопленной аудитории, и он стоял перед кафедрой, лысый и маленький, в облезлой шубе, в позе античного оратора, открыв рот и подняв указательный палец. Я появлялся на пороге, и, не поворачивая головы, он саркастически приветствовал меня: «Доброе утро!»
Только что был прочитан абзац Саллюстия, из «Войны с Югуртой», поднятый палец означал, что учитель задал свой любимый вопрос и ожидает ответа. Мы разбирали текст, как шахматную партию, нимало не задумываясь над тем, что он, собственно, выражает. Важно было знать, каким оборотом блеснул в данном случае автор, и выпалить:
«Praesens historicum! Congruentia inversa!»1
Ибо цель и смысл словесности не в том, чтобы что-нибудь сообщить. Цель, и смысл, и достоинство литературы во все века состояли в том, чтобы демонстрировать немеркнущее величие языка.
Для избранных существовали факультативные занятия, где мы усердно переводили и комментировали доселе не издававшуюся на русском языке «Апологию» Апулея, жуткую историю о том, как красивый молодой африканец обольстил богатую вдову, но родственники вовремя догадались, что он зарится на ее наследство, и обвинили его в колдовстве. Только благодаря ораторскому искусству — хорошо подвешенному языку — удалось ему избежать смерти.
Предполагалось, что наш коллективный труд будет опубликован, но в разгар работы старый учитель умер. В первый раз я пришел к нему домой. Он жил совершенно один, на последнем этаже огромного старого дома без лифта, в комнатке, заставленной картонными коробками, где лежали его книги. Слава Богу, он не дожил до моего ареста.
Несоответствие было поразительной чертой времени. Нечто абсолютно несовместимое — вместе, рядом.
Классическое отделение: какой это был странный заповедник, Телемское аббатство, музей, где мы существовали каким-то образом, посреди гнусной эпохи. Как на коммунальной кухне уцелевшая дворянка могла стоять перед кастрюлями и керосинками бок о бок с женщинами, поднявшимися со дна, так в центре города перед старым зданием Университета стояли почернелые от времени статуи Герцена и Огарева, а рядом, в десяти минутах ходьбы, возвышался гранитный дом-колумбарий с подвалами, и застенками, и прогулочными дворами на крышах, охраняемый пулеметами и часовыми, где сидели в своих кабинетах, в кителях и погонах, в синих разлатых штанах волосатые человекообразные существа, которые только вчера слезли с деревьев.
Тридцать первого декабря в кабинете за двойной дверью, за дубовым столом, под портретом Рыцаря революции сидел старик или по крайней мере тот, кто должен был казаться стариком вошедшему посетителю, и делал вид, что читает бумаги. Был двенадцатый час ночи.
Слева от него, у окна за столиком с пишущей машинкой, сидел секретарь, человек-нуль без внешности, актер без речей.