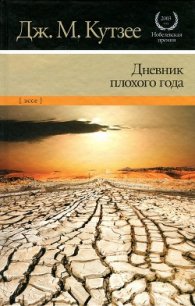Осень в Петербурге (др. перевод) - Кутзее Джон Максвелл (читаем книги txt) 📗
Он знает, что Анна согласна с ним, и все же она не произносит ни слова. И он продолжает, пытаясь сломить ее слабое сопротивление:
— Я хотел бы прижить с вами ребенка.
Анна краснеет.
— Что за глупости! У вас уже есть жена и ребенок!
— Это другая семья. Вы — члены семьи Павла, вы и Матрена. И я тоже из этой семьи.
— Я вас не понимаю.
— В сердце своем — понимаете.
— И в сердце тоже! Что вы предлагаете? Чтобы я выносила ребенка, отец которого будет жить за границей и почтой высылать мне содержание? Нелепость!
— Но отчего? Вы же заботились о Павле.
— Павел был мне жильцом, а не сыном!
— Я вовсе не жду, что вы примете решение сразу.
— Ну так я приму его сразу! Нет! Вот вам мое решение!
— Но что, если вы уже беременны?
Она вспыхивает.
— Это вас не касается!
— И что, если я не вернусь в Дрезден? Если останусь здесь и буду в Дрезден высылать содержание?
— Здесь? В комнате для постояльцев? Я полагала, причина, по которой вы не можете жить в Петербурге, состоит в том, что кредиторы упрячут вас в тюрьму.
— С долгами я как-нибудь справлюсь. Мне нужен успех, один-единственный, больше ничего не потребуется.
Внезапно Анну пробирает смех. Она, может быть, сердита на него, но не оскорблена. Ей он может сказать все что угодно. Как это не похоже на Аню! Аня расплакалась бы, хлопнула дверью, и пришлось бы потратить не меньше недели, мольбами и просьбами возвращая ее расположение.
— Федор Михайлович, — говорит Анна Сергеевна, — завтра поутру вы проснетесь и не вспомните из нашего разговора ни слова. Вам просто взбрела в голову случайная мысль. Всерьез вы ни минуты об этом не думали.
— Вы правы. Именно так. Потому-то я этой мысли и верю.
Она не падает в его объятия, но и не отталкивает его.
— Двоеженство! — негромко и презрительно произносит она, и ее вновь одолевает смех. Затем она спрашивает, уже серьезно: — Хотите, я приду к вам ночью?
— Ничего на свете не хочу сильнее.
— Ну, поглядим.
Она возвращается в полночь.
— Я не могу остаться, — говорит она и тут же закрывает за собою дверь.
Они любят друг друга, как приговоренные к смерти, забыв обо всем, кроме своих ощущений, устремляясь к единой цели. Минутами он не способен сказать, кто из них кто — кто мужчина, кто женщина, — в эти мгновения они походят на чету скелетов, соединений костей и связок, втиснутых одно в другое, рот в рот, глаза в глаза, сцепление ребер, сплетение берцовых костей.
Погодя она лежит в узкой кровати, прижимаясь к нему, положив голову ему на грудь, привольно закинув длинную ногу поверх его ноги. У него чуть кружится голова.
— Так это и есть зачатие спасителя? — мурлычет она. И, видя, что он не понял, поясняет: — Истинная река семени. Ты ничего не захотел оставить случаю. Вся постель промокла.
Святотатственные слова ее лишь обостряют интерес, который он к ней испытывает. Всякий раз он находит в ней нечто новое, поразительное. Немыслимо, что, уехав из Петербурга, он не вернется назад. Немыслимо, что они не увидятся больше.
— Почему ты заговорила вдруг о спасителе?
— Разве не в этом его задача — спасти тебя, спасти нас обоих?
— Но почему ты уверена, что будет он?
— О, женщина такие вещи знает.
— А что скажет Матреша?
— Матреша? О братике? Матреше больше ничего и не нужно. Будет нянчиться с ним сколько душа пожелает.
По видимости вопрос был задан о Матреше, но это лишь внешняя оболочка другого вопроса, которого он не задал, потому что и без того знает ответ. Павел вовсе не обрадовался бы брату. Павел взял бы братика за ногу и размозжил его голову о стену. Павел счел бы его не спасителем, но самозванцем, узурпатором, дьяволенком, укрывшимся под пухленькой младенческой плотью. И кто мог бы поклясться, что он не прав?
— Так женщина непременно знает?
— Ты спрашиваешь, знаю ли я, что забеременела? Не беспокойся, этого не случилось, — и затем: — Если я задержусь еще ненадолго, я засну.
Анна отбрасывает одеяло, перебирается через него. Отыскав при лунном свете одежду, она одевается.
Он ощущает мимолетную боль. Его волнуют полузабытые, давние чувства; юноша, таящийся в нем, еще не умерший, вскрикивает, стараясь, чтобы его услышали, труп, скрытый в нем, все еще не похоронен. Ему остается лишь шаг до любви, до пропасти, от падения в которую никакая сдержанность, никакое благоразумие его не спасут. Снова падучая или же близкое подобие ее.
Побуждение было сильным, но и оно прошло. Сильным, но сильным недостаточно. И никогда уже не набрать ему нужной силы, если только оно не отыщет какой-то опоры.
— Иди сюда, на минуту, — шепчет он.
Она садится на кровать, он берет ее руку.
— Можно я предложу кое-что? Мне кажется, отношения Матреши с Сергеем Нечаевым и друзьями его не доведут девочку до добра.
Анна отнимает руку.
— Конечно не доведут. Но зачем говорить об этом сейчас?
Голос ее ровен и холоден.
— Видишь ли, я не думаю, что ее стоит оставлять одну на то время, когда Нечаев может сюда заглянуть.
— И что ты предлагаешь?
— Нельзя ли ей до часа, в который ты приходишь домой, оставаться внизу, у Амалии Карловны?
— Просить старуху ухаживать за больной девочкой — это немного слишком, ты не находишь? Тем более что она не ладит с Матрешей. Разве не довольно будет сказать Матреше, чтобы она не открывала дверь чужим людям?
— Ты же не знаешь, насколько сильна власть, приобретенная над нею Нечаевым.
Анна встает.
— Мне это не нравится, — говорит она. — Не понимаю, почему мы должны обсуждать мою дочь среди ночи.
Между ними снова встает ледяная стена.
— Неужто же мне невозможно упомянуть ее имя без того, чтобы ты не рассердилась? — сокрушенно спрашивает он. — Ты думаешь, я заговорил бы о ней, если бы не принимал благополучие ее близко к сердцу?
Анна не отвечает. Дверь открывается и закрывается.
19
Резкий переход от возобновленной близости к возобновившемуся отчуждению погружает его в замешательство и уныние. Он колеблется между страстной потребностью помириться с этой тяжелой, обидчивой женщиной и гневным желанием махнуть рукой не только на их не имеющие никакого будущего отношения, но и на весь этот полный скорбей и интриг город, с которым он не ощущает более живой связи.
Он потерпел поражение. «Павел!» — шепчет он, пытаясь прийти в себя. Но Павел больше не ведет его за руку, Павел его не спасет.
Утро он проводит, затворясь в своей комнате, сидит, склонив голову, обхватив руками колени. Он не один. Но не сыновнее присутствие ощущает он в комнате. Нет — тысячи мелких бесов роятся в воздухе, точно выпущенная из банки саранча.
Когда он наконец заставляет себя встать, то встает он лишь для того, чтобы снять с туалетного столика оба портрета Павла — дагерротип, привезенный им с собою из Дрездена, и рисунок Матрены, — сложить их лицом к лицу, завернуть и спрятать в чемодан.
Он выходит из дому для очередного визита в полицию. Воротившись, он видит Анну Сергеевну, пришедшую на несколько часов раньше обычного и определенно встревоженную.
— В городе целый день происходят стычки студентов с полицией. По преимуществу на Петроградской, но и на нашем берегу тоже. Лавки позакрывались — на улицах слишком опасно. Племянник Яковлева ехал в двуколке домой с рынка, и кто-то запустил в него булыжником, без всякой причины. Камень ударил в запястье, и рука у него теперь болит так, что он пальцами двинуть не может, похоже, кость перебита. Он рассказал, что среди студентов мелькает все больше мастеровых. А главное, студенты снова начали поджигать дома.
— Ой, давайте пойдем посмотрим, — предлагает из постели Матрена.
— Ни в коем случае! Это опасно. Да и ветер на улицах такой, что до костей пробирает.
Она ничем не показывает, что помнит прошлую ночь.
Он снова выходит из дому, заглядывает в чайную. В газетах о столкновениях со студентами ни слова. Впрочем, напечатано извещение о том, что вследствие «распространившегося среди студенчества неподчинения» университет закрывается впредь до дальнейших распоряжений.