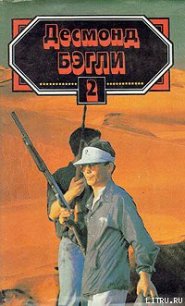Через много лет - Хаксли Олдос (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
Один Пит был безоговорочно несчастен — конечно, и из-за трубочиста, и бурного веселья Вирджинии; но также из-за того, что пала Барселона, а вместе с нею рухнули и все его надежды на скорую победу над фашизмом, на будущие встречи со старыми товарищами, которые едва ли останутся в живых. И это было не все. Смех после анекдота о трубочисте являлся лишь одним удручающим обстоятельством среди многих. Прошло уже две смены блюд, а Вирджиния еще ни разу не обратила на него внимания. Но почему, почему? В свете случившегося за последние три недели это было необъяснимо. С того самого вечера, когда Вирджиния повернула назад у Грота, она была так мила с ним — часто подходила поболтать, расспрашивала об Испании и даже о биологии. Мало того, она попросила посмотреть что-нибудь через микроскоп! Дрожа от счастья, так что едва смог пристроить как следует предметное стекло, он подкрутил резкость, и препарат из кишечной флоры карпа стал отчетливо виден. Потом она села на его место и склонилась над окуляром, и пряди ее каштановых волос свесились по обе стороны от микроскопа, а над краем розового свитера показалась неприкрытая шея — такая белая, такая заманчивая, что он чуть не упал в обморок, гигантским усилием преодолев соблазн поцеловать ее.
За прошедшие с тех пор дни он часто жалел, что не поддался тогда этому соблазну. Но затем снова брали верх его лучшие чувства, и он радовался, что все сложилось именно так. Ведь иначе, без сомнения, было бы нехорошо. Потому что, хотя он давно уже перестал верить в эту чепуху насчет крови Агнца и прочего, в которую верили его родные, он все еще помнил слова своей набожной и свято чтущей приличия матушки о том, как дурно целовать девушку до помолвки; в душе он по-прежнему оставался пылким юношей, который в трудный период созревания с восторгом внимал красноречивому пастору Шлицу и с тех пор твердо решил хранить целомудрие, глубоко уверовал в Святость Любви, проникся благоговением к некоему чуду, именуемому христианским браком. Но пока, к сожалению, он еще слишком мало зарабатывал и не чувствовал за собой права говорить Вирджинии о своей высокой любви и предлагать ей сочетаться с ним христианским браком. Имелась здесь и дополнительная сложность, которая состояла в том, что с его стороны этот брак был бы христианским только в обобщенном смысле; Вирджиния же принадлежала к церкви, которую пастор Шлиц называл вавилонской блудницей, а марксисты считали особенно отвратительной. Кроме того, эта церковь вряд ли отнеслась бы к нему лучше, чем он к ней; правда, теперь, после преследований, которым Гитлер подверг ее в Германии, и испанского госпиталя, где за Питом ходили сестры-католички, она заметно выиграла в его глазах. И даже если бы эти финансовые и религиозные трудности каким-нибудь чудом удалось уладить, все равно остался бы еще один ужасный факт — мистер Стойт. Он, конечно же, знал, что мистер Стойт для Вирджинии не более чем отец или максимум добрый дядюшка, — но знал это с той чрезмерной определенностью, которую порождает желание; его уверенность была сродни уверенности Дон-Кихота, твердо знавшего, что картонное забрало его шлема прочнее стали. Когда знаешь что-то подобным образом, разумнее не задавать лишних вопросов; а если он предложит Вирджинии выйти за него замуж, подробности ее отношений с мистером Стойтом почти наверняка должны будут проясниться даже помимо его воли.
Очередным осложняющим фактором в этой ситуации был мистер Проптер. Ибо если мистер Проптер прав, а Пит все более и более склонялся к мысли, что это так, то, очевидно, нет никакого резона совершать поступки, которые могут затруднить переход с человеческого уровня на уровень вечности. И хотя он любил Вирджинию, ему едва ли удалось бы убедить себя, что брак с ней может способствовать просветлению какой бы то ни было из сторон.
Прежде он, пожалуй, питал на этот счет некоторые иллюзии; однако за последние неделю-две изменил свое мнение. Точнее, теперь у него вовсе не осталось никакого мнения; он был просто-напросто сбит с толку. Ибо характер Вирджинии неожиданно стал другим. Ее невинность, по-детски шумная и открытая, вдруг превратилась в тихую и непроницаемую. Раньше она всегда беззаботно подшучивала над ним, держала себя раскованно, по-приятельски; но недавно в ее поведении произошла странная перемена. Шутки прекратились, и их место заняла какая-то трогательная заботливость. Она была очень ласкова с ним — но не так, как девушки бывают ласковы с человеком, которого хотят влюбить в себя. Нет, Вирджиния была с ним ласкова, словно сестра, и даже не просто сестра: почти как сестра милосердия. И даже не просто как сестра милосердия, а как та самая сестра, которая ухаживала за ним в геройском госпитале, — молоденькая, с большими глазами и бледным овальным лицом, точно у Девы Марии, какой ее обычно изображают; казалось, ее всегда переполняет затаенное счастье, источник которого не в том, что происходит вок руг, а где-то внутри; она словно вглядывалась во что-то удивительное и прекрасное, видное только ей; и когда она вглядывалась туда, у нее уже не было причин пугаться, к примеру, воздушного налета или расстраиваться из-за ампутации. Она, очевидно, смотрела на вещи с другого уровня — с того самого, который мистер Проптер называет уровнем вечности; и реагировала на все иначе, чем люди, живущие на человеческом уровне. На человеческом уровне ты то злишься, то пугаешься; а если и спокоен, так только благодаря усилию воли. Но та сестра сохраняла спокойствие без всяких усилий. Тогда он восхищался ею, не понимая. Теперь, спасибо мистеру Проптеру, он уже не просто восхищался, а кое-что и понимал.
Да, в последние недели Вирджиния напоминала ему именно эту сестру. Как будто в ней произошел внезапный переход от обращенности вовне к внутренней жизни; от открытого реагирования на окружающее к глубокой, загадочной отрешенности. Причина этого превращения оставалась для него непонятной, но сам факт был налицо, и он уважал его. Уважал — вот почему он не поцеловал ее в шею, когда она склонилась над микроскопом; вот почему ни разу не дотронулся до ее локтя и не взял ее за руку; вот почему ни единым словом не обмолвился ей о своих чувствах. Он понимал, что теперь, после ее странного, необъяснимого преображения, все эти поступки были бы неуместны, почти кощунственны. Она решила быть с ним ласковой, как сестра; значит, он должен вести себя как брат. А сейчас, непонятно почему, она словно вовсе забыла о его существовании.
Сестра забыла своего брата; а сестра милосердия забылась настолько, что позволила себе слушать гадкий анекдот Обиспо о трубочисте да еще смеяться над ним. И тем не менее, заметил сбитый с толку Пит, как только она перестала смеяться, ее лицо вновь обрело выражение этой таинственной отрешенности, погруженности в себя. Сестра милосердия вернулась к прежнему облику так же быстро, как оставила его. Это было недоступно его пониманию; просто в голове не укладывалось.
Когда подали кофе, Обиспо объявил, что намерен устроить себе выходной до завтра, а поскольку в лаборатории сейчас нет никакой срочной работы, он советует Питу сделать то же самое. Пит поблагодарил его и, притворившись, будто спешит (ибо за обсуждением послеобеденных планов Вирджиния наверняка проигнорировала бы его опять, а он не хотел подвергаться очередному унижению), наскоро проглотил кофе, невнятно извинился и покинул столовую. Чуть позже он уже шагал по залитой солнцем дороге вниз, в долину.
По пути он размышлял о том, что услышал от мистера Проптера во время последних встреч.
О том, что он сказал насчет самого глупого места в Библии и самого умного: «Возненавидели Меня напрасно» и «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» [182].
О том, что никому и ничего не достается даром — например, за избыток денег, за избыток власти или секса человеку приходится платить более прочной привязанностью к своему "я"; страна, которая развивается слишком быстро, порождает тиранов, подобных Наполеону, Сталину или Гитлеру; а представители процветающей, не раздираемой внутренними склоками нации платят за это тем, что становятся чопорными, самодовольными и консервативными, как англичане.
182
Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. — Послание к Галатам св. ап. Павла, 6, 7