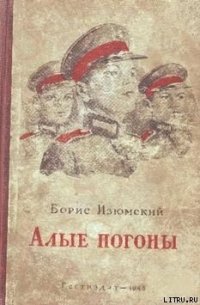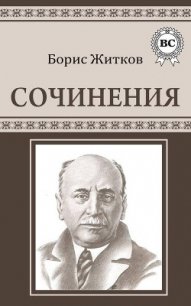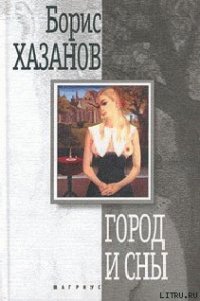Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (версия книг txt) 📗
Поэтесса Лиза пришла в театр обтянутая, как чулком, джинсами и свитером и, конечно, с крестиком на груди, который так и прыгнул на Филармона Ивановича, когда с поэтессы Лизы в гардеробе снял пальто сопровождавший ее субъект — тот самый в бежевом, знакомый Филармону Ивановичу и по встрече наяву, и по встрече во сне.
Субъект протянул руку, знакомясь, и представился:
— Эрнст Зосимович Бицепс.
Филармон Иванович молча пожал узкую руку субъекта, стараясь понять, кто это такой, но тут в гардероб выкатился кубарем главный режиссер театра, лицо его было прожектором обаяния, он кинулся к ним, Филармон Иванович чуть было не сделал движение ему навстречу, но вовремя заметил, что прожектор целит не в него, а в спутника Елизаветы Петровны, весьма, со всех точек зрения, невзрачного человека.
— Эрнст Зосимович, — взволнованно и глуховато сказал режиссер, — вечер добрый. Первый состав сегодня, Эрнст Зосимович.
Бицепс чуть улыбнулся тонкими губами и сказал небрежно и негромко, чтобы вслушивались:
— Дела, дорогой, посижу чуть-чуть — и уеду, а к концу спектакля вернусь.
— И ко мне, и ко мне! — еще взволнованнее и еще глуше сказал режиссер. — Здравствуйте, Филармон Иванович, — заметил он наконец инструктора и мельком пожал ему руку.
Все, казалось бы, получилось как нельзя лучше — субъект был вовсе не субъектом, а могущественным лицом, неизвестным Филармону Ивановичу, но хорошо известным многим — с ним здоровались почтительно и первыми, а он отвечал приветливо, но отнюдь не панибратски; этот влиятельный, хотя внешне совсем бесцветный товарищ, сам вел Елизавету Петровну под руку, беря на себя всю ответственность и за ее обтянутую фигуру, и за крест, он же с ней рядом и сел в директорской ложе, а инструктор с главным режиссером поместились за ними во втором ряду; все, казалось бы, хорошо устроилось, тем более, что товарищ Бицепс удалились вместе с режиссером, едва погас свет; но Филармон Иванович не мог следить за спектаклем, несмотря на первый состав, потому что был страшно расстроен.
Расстройство началось с первой секунды встречи. Его пальто оказалось невозможным рядом с верхней одеждой Эрнста Зосимовича и Елизаветы Петровны. Костюм Филармона Ивановича был еще свежий, выходной — жена называла его почему-то кобеднешним — вполне достойный, как и выходные, еще не стоптанные черные ботинки с добротными шнурками, как и рубашка с галстуком, но вот пальто имелось у него одно, недавно из химчистки, вполне еще вроде бы и живое пальто, но, увы, рядом с бежевой вывороткой высокопоставленного Бицепса и длиннополым тулупчиком Елизаветы Петровны, расшитым сверху донизу яркими узорами из цветной тесьмы, его пальто было совершенно постыдным, нищенским, оно громко кричало о бедности своего носителя. А он-то думал, что перелицевал, почистил — и все в порядке! Нет, идти в таком убогом пальто по улице рядом с ней нельзя себе было даже и вообразить, лучше голым идти, не так стыдно!
— Нет, лучше голым! — хриплым басом вдруг сказал Филармон Иванович и, потрясенный тем, что впервые в жизни не усидел безмолвно в театре, вытаращил глаза… Поэтесса Лиза отнесла его выкрик к происходящему на сцене и засмеялась.
В то время, то есть, повторим, лет через десять после того, как нога человека впервые ступила на Луну, на Земле прочное место занимала в моде верхняя одежда под названием дубленка, тулупчик, выворотка, полушубок. Как все разнообразие людей произошло — еще недавно в это очень крепко верили — от обезьяны, так и все эти черные, коричневые, шоколадные, бежевые, серые, белые, из кожи искусственной и настоящей, с мехом подлинным или поддельным, то расшитые цветами, то украшенные живописными заплатами, то в талию, то дудочкой, то короткие, то до пят, то грубые, то тонкие, то с аппликациями, так и все эти наряды, официально стоившие сравнительно недорого, а продававшиеся на черном рынке за сотни рублей, а то так и за тысячу, а то и за полторы — да, да, рассказывали о женщине, уплатившей за дубленку тысячу девятьсот рублей, Филармон Иванович сам слышал этот рассказ в столовой для рядовых, — так вот, как людское разнообразие, многим хотелось бы и сейчас верить, родилось от обезьяны, так и все это многоцветье нарядов произошло от обыкновенного кожуха, от старинного овчинного тулупа, от одежды примитивной, надежной и теплой, доступной прежде любому сторожу или младшему лейтенанту. Но в процессе эволюции и прогресса тулуп достиг таких высот, что Филармон Иванович не мог о нем и мечтать. Денег он бы наскреб, несмотря на то, что помогал и отцу, и сбежавшей жене, рублей сто двадцать выкроить смог бы, но где достанешь эту самую дубленку? В какую кассу внесешь свои деньги, чтобы обменять их на дубленку? Пронеслись было слухи, что своих обеспечат, но не подтвердились. Филармон Иванович так захотел дубленку, что даже уловил ее противный бараний запах, еще в гардеробе ошеломивший его. Он понюхал воздух, пахли волосы поэтессы Лизы, сидевшей перед ним, пахли терпкими духами, и Филармон Иванович почувствовал, что если он сейчас же, сию же минуту не станет владельцем дубленки, то либо умрет, либо сделает такое, что будет вроде как бы и смерть.
Зажегся свет, поэтесса Лиза повернула к нему лицо, точь-в-точь то самое лицо из сна, белое лицо с серыми глазами, и Филармон Иванович тихо и доверчиво сказал в это большеглазое и мягкое лицо:
— Я хочу дубленку.
Лицо смотрело на него внимательно целую, по крайней мере, вечность, и наконец поэтесса Лиза сказала:
— Хорошо.
В антракте она вела Филармона Ивановича под руку и говорила, не умолкая:
— У меня есть друг, старший друг, вообще у меня много друзей, подруг почти нет, а друзей много, есть, конечно, и подруги, но этот друг самый близкий, он почти не пьет, редко рюмку, я не знаю, какая у него профессия, он о ней не говорит, но он столько знает, столько читал, столько выучил языков, что неважно, какая у него профессия, он говорит, что его специальность — понимать, я его вчера видела, он любит, когда я прихожу, поэтому вчера я и не смогла с вами встретиться, он мне рассказывал о коллапсирующих системах, он старался понять, почему такие системы все-таки, несмотря ни на что, вопреки всей логике наших представлений неизбежно переходят с орбиты, более близкой к смерти, на орбиту, менее к ней близкую…
Филармон Иванович хотел было спросить, что это все такое, хотел сказать, что он ничего не понимает, что это отдает чуждым душком, отдает не почему-либо, физика и математика, а может быть, в данном случае, и астрономия в рамках теории имеют право отражать разные орбиты, если верно, хотел, словом, вовремя отреагировать, мало ли что, да и ей ни к чему повторять, но вместо этого неожиданно басом произнес:
— Не орбита важна, а ядро.
— Вот и он сказал вчера, — посмотрела поэтесса Лиза на Филармона Ивановича углом глаза, — что для коллапсирующих систем есть ядро смерти, оно внутри их орбит, а есть ядро жизни, оно обнимает их орбиты. Он сказал, что есть орбиты вне ядра, а есть внутри ядра, и это дает нам надежду. Вам бы хотелось с ним встретиться?
— Нет, — сказал Филармон Иванович решительно.
— Ну и зря, — сказала поэтесса Лиза. — А с Эрнстом Зосимовичем?
— Он кто?
— Он очень любит театр, — сказала поэтесса Лиза, — мечтал стать актером, но пришлось идти куда-то, не знаю куда, но он занят, за ним приезжают и везут на заводы, на совещания, на аэродромы, еще куда-то. Я с ним всего неделю знакома. Через него к вам и стихи мои попали, ему самому неудобно было звонить, так он через кого-то.
Может быть, подумал Филармон Иванович, товарищ Бицепс из тех неприметных внешне, что охраняют нашу секретность? Может, он генерал? Почему же ни разу не заметил он такую вот звезду среди светил и средоточий власти, не заметил и следов ее силы притяжения в космических порядках областного управления? Молод для генерала… Но так знаком в театре, даже билетерше знаком, а ему, приставленному к театру для руководства, незнаком начисто… Дотянуть бы до пенсии…
И тут, гуляя по фойе с поэтессой Лизой, понял Филармон Иванович, понял с несомненностью, что не дотянет до пенсии, что не соберутся на десять минут товарищи по работе, чтобы проводить его на заслуженный отдых, не скажет старший из них короткую речь, безразличную, если не к тебе она обращена, не твоей жизни итог подводит, но ждет ее с волнением уходящий, каждое слово ловит своего итога, взвешивает, сопоставляет, просыпаясь потом по ночам и вспоминая, а почему сказал «любил труд», а не сказал «трудолюбивый»? Почему помолчал перед словами «позвольте обращаться к вам за советом»? Нет, не услышит он такой речи, не подарят ему ни часы именные, ни даже трехтомник Чернышевского с надписью, ни даже бюстик бессмертного прищурившегося вождя; не будет получать он поздравительные открытки ни к Октябрю, ни к Маю, ни даже к Дню Победы, самому, если честно, памятному для воевавшего дню; и помешает ему заслуженно помирать, лишит его такой честно заработанной участи эта вот случайная птица, неведомо почему залетевшая в его принципиальную жизнь, вполне на волос было, чтобы никогда им не встретиться, ни вероятности не имелось, ни случайности, ни закономерности, как в чьем-то рассказе метеорит голову человеку насмерть пробил; ни за что ни про что — лишайся привычных перспектив, вылезай посреди маршрута из рейсового автобуса и топай в неведомое, где не ступала еще, может быть, нога человека, где нет коллектива, чтобы на пенсию проводить или хоть в почетном карауле у гроба постоять…