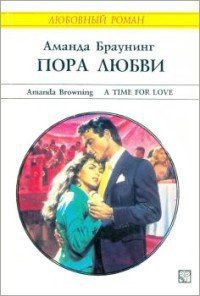Заложники любви - Перов Юрий Федорович (книги полностью бесплатно txt) 📗
А у Ваньки Васильева эти разговоры о справедливости с детства. Он с третьего класса задвинулся на этих разговорах. А какая тут на хрен справедливость? Да объяви ты эту справедливость завтра с утра по радио, так все в подвалы и погреба со страха попрячутся. У каждого рыло в пуху.
И вообще, ее не может быть, этой Ванькиной справедливости. Ведь что для одного справедливо, для другого нож вострый. Правильно мать-покойница говорила, что трудом праведным не построишь палат каменных. А раз так, то на хрена и корячиться. Нужно, как в Писании сказано: птичка Божия не знает ни забот и ни хлопот, день-деньской она летает, а шамовки полный рот.
Вот я по этому Писанию и живу и ни о какой другой справедливости не задумываюсь. От мыслей волосы вылезают. А тут день прожил — и хорошо! Будет день, будет и пища, а не будет пищи — и хрен с ней, без закуски обойдемся. А вообще-то я за вином не гонюсь. Будет — выпью, а не будет — хрен с ним. Убиваться не стану, как другие синюшники.
И вообще я ни за чем не убиваюсь. Вот только без курева не могу. Сколько раз, когда ночью табак кончится, ходил на станцию бычки собирать. А что? Чего брезговать? Я же через мундштучок. Какая на хрен бактерия через мундштучок переползет? Вон когда чистишь спичкой, так оттуда прямо деготь каплет. Тут не только бактерия невидимая, тут сам глотни — коньки отбросишь. Капля никотина убивает лошадь.
Ванька никогда не курил. Щеки-то у него вон круглые и румяные, как у бабы. И зимой и летом румяные. Только когда распсихуется, они у него белеют. У других буреют, а у него белеют. Все не как у людей. Когда он в тот день ко мне утром прибежал, то бледный был как смерть. Я испугался, что его в тот же миг кондрашка хватит.
Мало того, что он меня разбудил после работы, так надо еще душу трясти, кто вчера был, что пили, куда подевались.
Ну, были люди, зачем скрывать? Товарищи, которые не брезгуют, как некоторые, с Фоминым стаканчик дернуть, об жизни поговорить. А то некоторые кореша закадычные большим начальством стали, носом крутят. Все им пахнет не так… А у меня не парикмахерская, чтобы духами вонять. Хреновую, между прочим, моду мужики взяли, одеколонятся, как бабы, скоро губы красить начнут… Посмотришь на такого — с души воротит.
А по мне лучше протухнуть, чем замерзнуть. Как это в пословице говорится — лучше яйца в йоту, чем в инее. А ради слабонервных я форточки настежь держать не буду. Не нравится — не нюхай. А я никакого такого запаха и не чую. Ну, от собак, особенно после дождя, немножко псиной подванивает, так это ничего — натуральный запах, никакой тебе химии…
Перегар ему не нравится. Мы же ведь не духи французские пьем… Пахнет, видишь, ему! А мне плевать! Свое дерьмо не пахнет!
В тот день, когда у госпожи Хурьевой-Пурьевой (это я ее так прозвал) кто-то кольца помыл, Иван впился в меня, как клоп. Кто был, откуда, когда ушли? А я знаю, когда ушли? Что я их, пасу, что ли?
Я проснулся в одиннадцатом часу ночи, когда Джек с меня одеяло стащил. Он всегда меня будит, лучше любого будильника. Ну, продрал я глаза, смотрю — никого нет. И все пусто! Хоть бы глоток по ошибке оставили, заразы! Ни капли не выжмешь. Вылизывают они бутылки, что ли? А во рту, как кошки насрали… Тут бы глоточек бормотухи. Освежает лучше газировки. Организм сразу в жизнь включается. Хорошо, что у меня пачка «Примы» была припрятана, а то бы и ее искурили, а мне опять на платформу бежать…
Послал я тогда Ваньку Васильева на хрен и снова спать лег. Я всегда сплю, если делать нечего. А чего зря топтаться? Вот если б халтура какая или кто пузырь поставил, тогда — другое дело.
Васильев, как я ему и велел, сел на свой лисипед и поехал на хрен. Около окошка моего остановился и пригрозил, зараза. Моли, говорит, Бога, чтоб это не твои орлы кольца те помыли, а то притянут тебя как соучастника.
Ну, я, понятное дело, пообещал помолиться. Пообещал даже при случае свечку поставить… Ему, Васильеву, в жопу. Горячим концом наружу, чтоб вытащить не смог и чтоб как стоп-сигнал она у него работала.
У сторожа Фомина была любимая поговорка: «Волк по утробе вор, а человек — по зависти». Сообразуясь с этой поговоркой, он относил себя к волчьему племени, а свою ночную деятельность именовал охотой.
Людей, крадущих ради корысти, он презирал. У него была своя жизненная программа, которой он гордился. Однажды он высказал ее Ваньке-дергунчику за бутылкой вермута:
— Фомин — то, Фомин — се, Фомин воняет! А Фомин поумнее многих чистоплюев. Ну, суетятся так, что жопа в мыле, а что толку? Ну, жрут получше… А мне наплевать на жратву! Утробу набил — и ладно. Когда брюхо напихаешь под завязку, тебе уже все равно, что в нем лежит, от любой шамовки воротить начинает. А хаваешь-то минут десять. Вот и все удовольствие. Так буду я себе жилы рвать, чтоб десять минут во рту сухую колбасу держать, а не мокрую? Да в гробу я видел всю жрачку! И одежду! И в телогрейке тепло! Даже теплее, чем в шевиотовом костюме. И полежать на ней не жалко, и под голову подложить… И сплю я мягко, и ем на столе, и сижу на стуле, и не собираюсь рогом упираться из-за полированной мебели. А кайфа у меня и без того больше. Я свободный волк, а они рабы своего брюха, своих жен, детей, соседей, перед которыми им хочется выпендриться. Уж про начальство я не говорю… А главное — жизнь моя по сравнению с ихней надежнее.
— Это точно! — поддакнул Ванька-дергунчик и потянулся за бутылкой.
— Фуечно! — передразнил его Фомин, отнял бутылку и налил сам. — Не шестери! Собственной жене готов поддакнуть за лишний глоток.
— Ну ладно, Вась, ты чего?.. Я говорю, правильно все! Ободряю!
— Да как же ты можешь меня ободрять, когда в мысль мою проникнуть тебе не дано от природы?
— Ну, ты… это… Я ведь тебя уважаю… — пробормотал Ванька-дергунчик, косясь на налитые, захватанные липкими пальцами стаканы.
— А на хрен мне твое уважение? — усмехнулся Фомин. — Ладно, поехали, — наконец сжалился он, — все равно я тут перед тобой без пользы мудями воздух рассекаю!
Они, чокнувшись стаканами, выпили, отщипнули от плавленого сырка. Ванька-дергунчик, перед тем как отправить сыр в рот, внимательно осмотрел кусочек и сковырнул с него зеленое пятнышко плесени. Фомин проглотил свой кусок, не разглядывая и почти не разжевывая, словно проиллюстрировал преданность своей социально-гастрономической теории.
— Вот почему жизнь моя надежнее? — Он снисходительно взглянул на Ваньку-дергунчика. — Слушай и запоминай, пока я жив. Вот выдали мне в кооперативе телогрейку и тулуп — я доволен, тепло. А твоя Актиния Карповна (ее звали Аксиньей. Актинией про-» звал ее за характер Фомин, начитавшись в журнале «Наука и жизнь» про обитателей океана) купит себе шубу каракулевую и тоже вроде довольна и счастлива. А соседка ее и товарка Тонька Избыткова купит от отчаяния шубу нутриевую, лохматую, и у твоей от зависти желчь по нервной системе разольется. И если б не жадность, то она бы свое каракулевое манто в капусту порубила бы со злости. А потом их третья товарка, какая-нибудь Тютькина, себе норковую справит — и пошло… Они уже обе страдать будут. И могут до того дострадаться, что серной кислотой Тютькину обольют. И кайфу в их жизни никакого. Одни переживания. Если и позволяют себе какое-нибудь маленькое удовольствие, то тайком, под одеялом, чтобы кто чего не сказал… И так в страхе за колбасу и за лишние портки всю жизнь живут с оглядкой. А я никого не боюсь. У меня отнимать нечего. Делаю что хочу, от чужих слов не завишу. Наливай, Ванек. И забудь, что я сказал. Тебе эта философия ни к чему. Была бы она на бумаге, ты бы в нее колбасу завернул, а пока она в воздухе — от нее для тебя никакой пользы. Наливай!
Ванька-дергунчик шмыгнул носом и вытер непрошенную слезу. Джек, стуча хвостом по полу, почуяв слезы, полуползком приблизился к лавке и ткнулся твердой тяжелой головой Ваньке в колени. Он всегда переживал, когда чувствовал запах слез. Найда в ответ на такое его действие ревниво заворчала из своего угла и тем самым заслужила от хозяина грозный окрик: