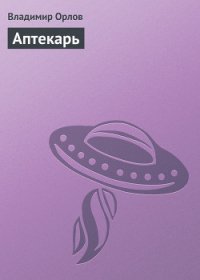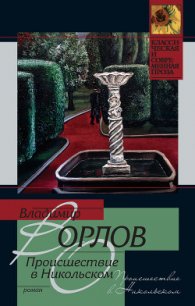Бубновый валет - Орлов Владимир Викторович (книга жизни txt) 📗
Капустина же я обрадовал тобольским сувениром. Иртышская рыба само собой. Подарки рыбозавода, оставив приличные экземпляры родителям и вынужденного муксуна Чашкиным, я раздал в редакции. Себя не обделил. Вяленый сырок определил себе. Капустину же я привез еще и трещотки. Их белая пластмассовая система-решетка вращалась вокруг пластмассовой же ручки, издавая далеко звучащий и отчаянно-упоительный треск.
Я зашел в Тобольске на базар. Он – на берегу Курдюмки, прямо под кремлевской горой – был почти пуст. Так, прошлогодние кедровые орешки, сушеные грибы, вязаные носки на досках крытых рядов. Я представил, каким когда-то здесь был златокипящим и шумным сибирский торг, и загрустил. И тут я услышал особенный треск, будто я попал в Лондон, на стадион “Уэмбли”. Продавали трещотки в ларьке с опять же пустой витриной. Откуда попали в нефутбольный Тобольск трещотки, ублажавшие в те годы английских и немецких фанатов, объяснить мне не смогли. “То ли из Тбилиси, то ли из Одессы, а может, из Гудермеса…” Впрочем, тайна происхождения тобольских трещоток не особенно волновала Капустина, он уже видел себя в пятницу на трибуне “Лужников” и прикидывал, какие ошеломления он вызовет у торпедовских фанов. Он и меня звал на игру, заманивал чешским пивом: “Старо-прамен” появилось и “Праздрой”, а с твоей рыбой…”
Я покачал головой. Капустин ушел, а я смотрел на дверной проем. И видел прислонившуюся к косяку Цыганкову. “Стало быть, всякие балахоны, – пришло мне в голову, – она носила не без причины. И позы порой на людях принимала особенные. Опасалась ухмылок и удивленных переглядов? Но тогда, у косяка с кроссвордом в руке (“Единорог…”), она стояла в сарафане, и даже дока Чупихина, готовая отыскать в Цыганковой изъяны и странности, существенного не углядела. И я у нас дома, в Солодовниковом переулке, ничего не заметил. Впрочем, что я земное, обыкновенно-житейское мог заметить в те часы?
"Ты, Куделин, простак или только прикидываешься им?” – вопрошал меня в своем кабинете К. В., Кирилл Валентинович Каширин. Менее всего простаком я согласен был признать себя в случае с Юлией. Главное – в случае! Но идиотом признать себя стоило!
Я не спал две ночи. Бессонницей никогда не страдал. Снотворных, естественно, не принимал и принимать не собирался. Пил в те дни поздно вечером пиво и даже водку, известное многим средство не помогало. В дневные часы, из-за хлопот и общений с людьми, мысли были спокойные и благодушные. Пугали телефонные звонки. Разговора со мной снова могла добиваться Валерия Борисовна. А вдруг и сама Юлия Ивановна. А вдруг и вызванная из Лондона для укрепления семейного благоустройства Виктория Ивановна Пантелеева, Вика, урожденная Корабельникова. Я боялся этих звонков. И жаждал их. Я знал, что и как надо ответить.
В ночных же своих состояниях, иногда все же полудремотных, я не знал, что и как отвечать – и самому себе, и несуществующим, но необходимым собеседникам. Мысли мои крутились, сворачивались в клубки, а то и развивались некиими нитями или лохмотьями, им не находилось слов, но даже и не выраженные словами, они грызлись между собой, попирая друг друга и то возвышая меня, то сбрасывая в провалы низости. Некоторые из них дробились… вспрыгивали обломками, обрубками, щепками. И уневодить их каким-либо общим примиряющим смыслом не было возможности. Чтобы загнать все эти сумятицы души и ума в туман неопределенности, а потом и вовсе отменить и забыть их, я постарался вывести упрощенные обозначения моих затруднений и требуемых поступков. На манер кратких указующих призывов Партии к Маю и Ноябрю. Даже для верности одарив их циферками. Это уже на манер деревенского философа Мао, снабжавшего своих партизанских овец простыми, в одну строчку, руководящими смыслами, вынутыми из и так уже облегченных текстов усатого кремлевского кормчего.
Под номером один на воздушной скрижали я высек: “Следует держаться подальше от семейства Цыганковых-Корабельниковых. Ради пользы семейства. И ради пользы собственной”.
Вторая скрижаль содержала вот что: “Признать способы осады меня Ю. И. и ее штурм подлостью”. Это утверждение показалось мне слишком строгим, но замену слову “подлость” найти я не смог.
Третье. “Раз цели и способы Ю. И. Ц. вызывают у меня чувство брезгливости, значит, ни о какой любви моей, речи быть не может”.
Четвертое. “Участвовать как-либо (словами ли, действиями ли) в нынешней ситуации Ю. И. Ц. я не могу и не имею права”.
Неплохо было бы вывести еще и “пятое”, “шестое”, “седьмое”, но я ограничился пока четырьмя скрижалями, пусть на них находились и не заповеди, а лишь направляющие мое житейское плавание утверждения.
Удовлетворенный умственной работой, я даже спустил ноги с дивана и поощрил себя стопкой водки. Но уже через полчаса удовлетворения мои улетучились. Скрижали с установлениями опять растворились в сумятице и грызне моих новых соображений. Она подла, а я каков же? Циферками своими я словно бы выстроил вокруг себя крепостные стены справедливости, себя же украсил латами романтического героя. Но какое же право я имею испытывать чувство брезгливости и к самой Юлии, и к тому, что у нас с ней было? Она что – меня обманывала или хотя бы вводила в заблуждение? Неужели я не должен был иметь в виду, что у нее были мужчины до и помимо меня? И как иначе могло быть в наше время, да еще и с понятиями Юленькиного поколения? А я кто? Я что – Вертер или немытый постник из вятской пустыни, нацепивший под рясой на бедра чугунные вериги в два пуда? Да, я старомоден и щепетилен в проявлениях своих чувств. Возможно, и просто труслив… Но ведь это в проявлениях! А внутри… А внутри-то! Я такой же, как и все, обыкновенный человек, мужик, самец, животное. К тому же я одарен природой силой и жизненными соками, каких хватило бы на троих… Я бы никогда не стал признаваться себе в этом, но в нынешнем ночном разборе я посчитал возможным опуститься в десятый погреб-этаж своих подземелий и выволочь оттуда признание: я и к Валерии Борисовне испытывал желание, то есть похоть, потому и отодвигался вчера от нее. (Или я приколдован к этой семейке? Проще всего так считать!) Я грешник, подлец, скотина! А мои обиды на Юлию могли быть вызваны лишь досадами самца-собственника: “На мое позарились!” И вот я, знавший утехи с женщинами, смог возрадоваться собственному чувству брезгливости! Каков герой-чистюля! Каков подлец! Ведь мне было прекрасно в ту ночь с Юлией, прекрасно, слова “О, если б навеки так было!” призвала истина и необходимость. Мне и теперь хотелось бы возопить: “О, если б навеки так было!”