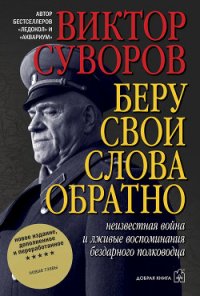Журналюга - Левашов Виктор Владимирович (первая книга TXT) 📗
— Я возьму следствие под личный контроль, — примирительным тоном пообещал он.
— А вот это правильно, генерал, — одобрил Лозовский, прекрасно понимая, что личный контроль ограничится тем, что у следователя истребуют объяснительную записку, в которой будет изложена версия происшествия, основанная на свидетельских показаниях и акте судебно-медицинской экспертизы. И не имеет значения, появился этот акт по умыслу или местный судмедэксперт накатал его по просьбе следователя, которому нужно было без лишней мороки закрыть дело.
— Убийство журналистов стало дурной российской традицией, — добавил Лозовский так же высокомерно, брезгливо, сонно. — На этот раз мы не дадим спустить дело на тормозах.
Предоставив кругам от брошенного им камня расходиться по Тюмени, где, как и во всех таких городах, новости не имели обыкновения задерживаться на одном месте, он отыскал дом Степанова в «Затюменке», как называли район за речкой Тюменкой, передал вдове Коли Степанова десять тысяч долларов от «Российского курьера» и выразил соболезнование, ненавидя себя за убогость слов, несовместимых с огромностью беды, обрушившейся на эту маленькую милую женщину.
Лозовский знал ее еще совсем девчонкой. Она работала медсестрой в подмосковном военном госпитале, в котором после операции лечился Степанов. Приезжая проведать его, Лозовский часто заставал ее возле его постели. Она держала его за руку и молчала. В Тюмень он вернулся с ней. У них было двое детей.
Дочь, старшая, сразу после школы вышла замуж за военного моряка, жила в мужем в гарнизоне в Находке. На похороны отца не прилетела — очень дорогая дорога. Сын учился на первом курсе Тюменского инженерно-строительного института. Он был в отца — такой же застенчивый, с такой же мягкой, словно бы виноватой улыбкой. Сидел, сутулясь, зажав руки в коленях, лишь изредка, успокаивая, трогал мать за плечо.
Денег она словно бы не увидела, даже не поняла, что это деньги. Она была еще там, в черном омуте смерти, которая оглушает и слепит втянутых в свою воронку людей, а для посторонних — что ж, дело житейское.
— Он вас любил, Володя, он вас любил, — несколько раз повторила она. — Он был так рад вашему звонку. Так хотел написать хороший очерк, так хотел!
Все дела заняли у Лозовского полдня. Осталось одно: помянуть Степанова. Сняв пыжиковую шапку и отогнув капюшон канадской «аляски», в которой всегда ездил в зимние командировки, не чувствуя ни мороза, ни ветра, он стоял в легком чистом снегу, какого никогда не бывает в Москве, смотрел на снимок Степанова, а душу терзало: «Он вас любил, Володя, он вас любил».
Белесое ледяное солнце клонилось к закату. От шоссе, на обочине которого стояла красная «Нива» «Тюменской правды», длинными синими тенями тянулись два следа. Один Лозовского, другой молодого журналиста из «Тюменской правды», репортера отдела информации, которым заведовал Степанов. Звали его Эдиком, он был рыжеватый, шустрый, с живым смышленым лицом. Фамилия у него была в масть — Рыжов. Он сам предложил Лозовскому показать могилу Степанова и теперь стоял в деликатном отдалении, втягивая непокрытую голову с короткой стрижкой в овчину черного дубленого тулупа, слишком большого для его щуплого тела.
Лозовский догадывался, чем вызвана его услужливость.
Стало вакантным место нештатного собкора «Российского курьера». Должность без зарплаты, но открывающая возможность печататься в «Курьере», ездить на стажировку в Москву и серьезно повышающая статус местного журналиста. Лозовский ждал, что Эдик заговорит об этом, но тот молчал, понимая, что сейчас не время и не место для дел.
— Наденьте шапку, Владимир Иванович. Не Москва, уши отморозите, — не выдержал наконец Эдик и сам поспешно нахлобучил ушанку.
— Да, конечно, — рассеянно отозвался Лозовский. — В аэропорту ресторан есть?
— Ну! Какой же аэропорт без ресторана? Аэропорт может быть без самолетов, а без ресторана это не аэропорт. А мы все-таки не хухры-мухры — нефтяная столица Сибири!
— Поехали, помянем капитана Степанова.
— Может, здесь? — неуверенно предложил Эдик, извлекая из глубин тулупа бутылку водки и выжидающе глядя на Лозовского, готовый в любой момент водку убрать и сделать вид, что ничего он не предлагал, а просто показал, что у него совершенно случайно оказалась с собой эта бутылка.
— Грамотно, — одобрил Лозовский. — Закусь?
— А как же? — обрадовался Эдик и вытащил горбушку черного хлеба. — Есть. У нас все есть. А чего нет, того нам и не надо. Степаныч так всегда говорил.
— Да ты, брат, вполне сложившийся журналист. Верстай.
— Стаканов нету, — растерянно признался Эдик. — Хотел купить по дороге… Забыл.
— А вот это, Эдуард, непрофессионально. Ну ничего, опыт дело наживное. Какие твои годы.
Устроились на очищенной от снега скамейке. По очереди приложились к бутылке, занюхали хлебом. Молча посидели, чувствуя неуместность любых слов, даже привычно-ритуальных, в этом царстве голубого снега и тишины, в которую не проникали ни гул самолетов, ни моторы проносящихся по шоссе машин.
Самолеты и машины двигались беззвучно, как на экране телевизора, у которого выключен звук.
— Такие-то вот дела, Эдуард, — проговорил Лозовский, ощущая, как водка размывает скопившийся внутри лед. — Так он и не написал очерка. Да и ладно. Если бы ты знал, что жить тебе осталось всего день, стал бы ты писать очерк? Нет. И я бы не стал.
— А что бы вы делали?
— Что? Не знаю. Впрочем, знаю. Собрал бы вокруг себя всех своих. Жену, стариков, детей. И побыл бы с ними. Просто так. Чтобы они поняли, что я их люблю.
— Почему вы сказали, что он не написал очерка? — спросил, помолчав, Эдик. — Он написал.
— Откуда ты знаешь?
— Он читал мне куски. Начало там было такое — про Христича: «Он выпрыгнул из кабины вездехода, закуржавевшего, как лошадь-монголка». «Будто обметенный полярными вьюгами». В смысле седой.
— Разве он виделся с Христичем?
— Когда первый раз полетел в Нюду, нет. Сказал, что нет. Христича вызвали в Тюмень. Они разминулись.
— Откуда же он узнал, что Христич седой?
— Рассказали. Или домыслил. Поэтому решил слетать еще раз. Раз написал, что видел, нужно увидеть. Я ему говорю: вычеркни, Степаныч, охота тебе туда тащиться. Погоды такие, что застрянешь в Нюде до Нового года. Нет, говорит, жалко. Начало действительно получилось живое… Вы курите?
— Нет.
— Я закурю?
— Да на здоровье.
Эдик выудил из тулупа пачку «Явы», оторвал фильтр и закурил, держа сигарету не между пальцами, а как бы в горсти, и затягиваясь коротко, быстро.
— Ты что, сидел? — удивился Лозовский.
— Нет, а что?
— Зэки так курят.
— А, это. Привычка, с армии. Я служил во внутренних войсках, в лагерной охране… И ведь все было за то, чтобы ему не ехать. Кольцов улетел куда-то за границу на переговоры, без него в конторе ничего не хотели решать. Там же у них свои вертолеты. Ладно, говорит, как-нибудь доберусь. Добрался.
— Так встретился он с Христичем или не встретился?
Тулуп чуть шевельнулся — это Эдик внутри тулупа пожал плечами.
— Об этом нужно спросить у самого Христича. Я звонил ему в Нюду — уже после этого. Ну, понимаете после чего. Сказали, приболел. Взял отпуск, улетел домой. У него дом где-то на югах.
— Что еще было в очерке?
— Про Христича, про Кольцова, про его «Союз». Про то, как он использует старые кадры «нефтянки», опыт и все такое. Лихо Степаныч размахнулся. Всю жизнь клепал информашки, а тут на тебе, целое полотно. Я еще посмеялся: смотри, как бы тебе это полотно боком не вышло.
— Почему? — насторожился Лозовский.
— Не любит наш губернатор Кольцова.
— Чужак?
— Нет. Кольцов наш, тюменский. Но его «Союз» зарегистрирован в Москве. Значит, все налоги платит в Москве, Тюмени от его дел почти ничего не перепадает. Ребята из «Сиб-ойла» дверь к губернатору ногой открывают, а Кольцову каждый вопрос приходится решать через бабки. Губернаторская команда доит его как хочет… Странновато все это, Владимир Иванович, вам не кажется? Степаныч же не пил, нельзя ему было. А сказали, что замерз в пьяном виде. Ну, понятно, ментам нужно закрыть дело. Но все равно не сходится. С кем-то подрался. С кем ему драться? Зачем? Он мухи никогда не обидел. Я вам честно скажу: он научил меня ценить жизнь. Такой, какая она есть.