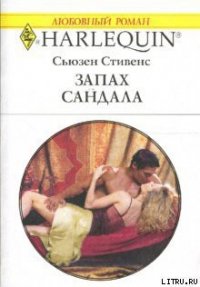Шпионы - Фрейн Майкл (бесплатные серии книг TXT) 📗
Из заслоненной деревьями выемки выкатывает электричка.
– Единственное, что не дает мне сойти с ума, – говорит он, – это шум поездов. Я лежу и жду следующего. Трижды в час – в город, трижды в час – из города. К домам в Тупике. Или в город, в огромный, необъятный мир. И я еду на каждой электричке. То в Тупик. То в город и дальше…
Его опять начинает бить кашель и дрожь.
– Ладно, ступай. Только отдай, что принес.
Из темноты ко мне протягивается белая рука и зависает в ожидании. Остается только подчиниться. Согнувшись в три погибели, я подлезаю под железные листы, оступаюсь на обвалившейся ступеньке и чудом не лечу вниз, в яму. Своим телом я загораживаю и без того скудный дневной свет, и единственное, что могу во тьме разобрать, – это запах: пахнет сырой землей, плесенью, старой мешковиной, протухшей едой, болезнью и тяжелым смрадным дыханием, как у стариков, что целыми днями сидят в читальне публичной библиотеки и дремлют над газетами.
По-прежнему не поднимая глаз и стараясь не вдохнуть случайно его микробов, я кладу провизию рядом с ним на землю. Поворачиваясь к выходу, искоса вижу, однако, что из темной всклокоченной волосни за мной наблюдают два лихорадочно посверкивающих глаза.
– Погоди, погоди! – говорит он.
Я гожу, с тоской глядя на верхние, освещенные солнцем ступени. Все же вдох сделать придется. Я прямо-таки чувствую, как микробы проникают в мой организм. За спиной слышится скрип карандаша. Пауза. Затем треск вырываемого из блокнота листа и шорох сминаемой бумаги. Снова скрип карандаша. Опять шорох сминаемой и отбрасываемой бумаги.
– Какой смысл? – вздыхает он. – Тем не менее хочется что-нибудь ей передать…
Тишина. Похоже, он обо мне забыл. Я делаю движение к лестнице.
– Знаешь, а ведь я всегда одну ее… – негромко говорит он. Я замираю. – С самого начала. Больше никого, только ее.
Снова молчание. Очень осторожно я делаю новую попытку удрать. Но не тут-то было:
– Постой! Вот. Отнеси это ей.
Стараясь не смотреть на него, я поворачиваюсь. Он нетерпеливо сдергивает что-то, обернутое вокруг шеи. Складывает сдернутое в несколько раз и протягивает мне. Я неохотно подхожу ближе и беру сверток, мягкий, шелковистый и горячий – от его пылающего в лихорадке тела.
– Просто ей на память, – шепчет он. – И скажи… скажи… Ох, нет, ничего не говори. Отдай, и все. Она поймет.
И вот я уже выбрался по разбитым ступенькам на свет, хватаю свой ранец, запихиваю в него зажатый в кулаке шелковистый сверток и пускаюсь в обратный путь, к Закоулкам.
– Стивен! – раздается взволнованный оклик. – Стивен! Скажи ей: «навеки». Запомнил? «Навеки».
Далеко на небосклоне, у самого горизонта, вспыхивает летняя зарница. Впереди раздается лай почуявших мое приближение собак.
Навеки.
Эти три слога тихонько звучат у меня в ушах, как прежде звучала Ламорна. Но в Ламорне слышался ласковый плеск набегающих на берег волн; а «навеки» похоже на звук, с каким ключ мягко поворачивается в отлично смазанном замке.
«Все кончено, – сказал он. – Навеки».
И мне ясно, что с этой минуты что-то навсегда будет заперто в прошлом – так мы с Китом запираем в сундучке от чужих глаз свои сокровища, так и меня самого запрячут однажды в предназначенный мне узкий ящик. И всегда ведь так было, с самого начала, сказал он. А повернуть ключ в скважине выпало мне. Навеки. Если только я исхитрюсь передать ей его слова, случившееся можно будет позабыть. Все станет как прежде.
А что же он в своей могиле под кустами бузины? Не знаю, меня это не волнует, да и чего мне беспокоиться? Что там с ним ни случится, произойдет оно очень скоро и сразу же уйдет в прошлое. Навеки.
Ночь напролет это слово чарующе тихо и плавно крутится у меня в голове, будто ключ, проворачивающийся в замочке, что висит на нашем сундучке. И весь следующий день, на экзаменах по геометрии и французскому я ощущаю вкрадчивую мягкость свертка, лежащего у меня в кармане. Бледно-зеленый, в коричневых пятнах шелк, покрытый сетью неправильных черных линий. Это карта, только необычная; я лишь разок взглянул на сложенную в несколько раз ткань и сразу увидел, что там написаны немецкие слова: «Chemnitz… Leipzig… Zwickau…» Это карта его родины, последняя память о его прежней жизни. Меня больше не тянет смотреть на этот кусок шелка или размышлять о его нескрываемой немецкости. Мне просто хочется отдать его ей и тем трехсложным словом тихо повернуть ключ. Весь вопрос в том, как отдать. Не могу же я просто постучать им в дверь. Что я буду делать, если дверь откроет Кит? Или если его отец окажется где-то поблизости?
В голову приходит один-единственный вариант: залезть в наше укрытие и ждать удобного случая. Она догадается, что мне надо ей кое-что передать. И найдет способ перебраться сюда через улицу.
Едва я заползаю на наш наблюдательный пункт, как замечаю там большие перемены. На плитке у входа красуется надпись: «БАЗА. ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Земля чисто-начисто подметена, на ней ни сухого листка, ни прутика. Жестяной сундучок прикрыт старенькой тряпицей, а на ней, в самом центре, стоит баночка из-под джема с букетиком поникших цветов черной бузины.
В нос сразу ударила разлитая в воздухе противная сладость, а в ушах, вытесняя все другое, нежно зажурчала Ламорна. От мысли, что сюда приходила Барбара, совсем одна, и оставила свой след, меня охватывает приятное волнение. Но его сметают возмущение и тревога: да как она смела?! Я поскорее сдергиваю с сундучка тряпку с банкой – чтобы Кит, когда заползет сюда, не увидел этого безобразия.
Постепенно тревога проходит. Навряд ли Кит придет. Тот отрезок моей жизни закончился, назад вернуться невозможно. Я снова расстилаю тряпицу на сундучке, ставлю на место баночку с цветами черной бузины и принимаюсь наблюдать за домом Хейуардов. Там тоже кое-что явно изменилось. Сад попрежнему в идеальном порядке, но возле входной двери стоит нечто совершенно несуразное – предмет, какого прежде на крыльце не бывало никогда. Детская прогулочная коляска.
Я сразу прихожу в волнение. За все время, что меня пускали в дом Кита, я ни разу не видел там тети Ди или Милли. Пытаюсь представить себе, как тетя Ди заливается веселым смехом среди тамошней благоговейной тишины и перезвона часов… Или как Милли тычется замазюканной мордашкой в бархатную, сдержанных тонов обивку…
И снова слышу голос, шепчущий в подземной тьме мое имя. Я гоню от себя это наваждение. Незачем даже думать о нем, скоро все пройдет навсегда. Надо только подождать и не впускать такие мысли в голову.
Дверь открывается, выходит тетя Ди с Милли на руках. Милли плачет. На пороге появляется мать Кита, она стоит и молча смотрит, как тетя Ди усаживает Милли в коляску, пристегивает ремнями и быстро катит коляску к калитке. Мать Кита продолжает молча стоять на пороге, но вдруг срывается с места, бежит за сестрой и что-то ей говорит. Тетя Ди останавливается и слушает, склонив голову. Милли верещит громче прежнего. Мать Кита бежит назад к входной двери. За ней тетя Ди. Они останавливаются и разговаривают на ступеньках крыльца, а Милли вопит у калитки. Ди закрывает руками лицо, потом уши.
По улице медленно идет миссис Эйвери, в руках у нее тяжелая сумка с картошкой. Миссис Эйвери меняет курс: перейдя дорогу, направляется к калитке Хейуардов и склоняется над Милли, чтобы успокоить малышку. К ним по дорожке устремляется тетя Ди, улыбаясь миссис Эйвери. С порога улыбается мать Кита.
Миссис Эйвери опять переходит улицу и шагает дальше к своему дому. Улыбка слетает с лица тети Ди. Взяв на руки ревущую Милли и опустив голову, она чуть ли не бегом устремляется к своему дому, небрежно толкая перед собой коляску.
Мать Кита делает несколько нерешительных шагов по дорожке, но, почувствовав, что с порога за ней наблюдает отец Кита, направляется следом за тетей Ди. Отец Кита подходит к калитке и, насвистывая, принимается осматривать штамбовые розы.
Когда мать Кита добирается до дома тети Ди, входная дверь уже заперта. Мать Кита стучит и ждет. Опять стучит. И опять ждет. Все еще насвистывая, отец Кита уходит в дом.