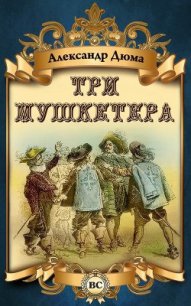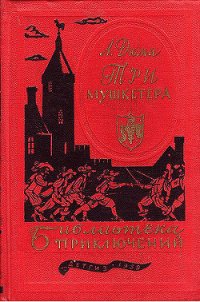О головах - Ветемаа Энн (читать книги онлайн бесплатно полные версии .TXT) 📗
Напишем-ка еще одну вариацию.
Он отпетый проходимец. Всю свою жизнь он был благовоспитанным деликатным проходимцем. У него мягкие руки, которые никогда не прикасались ни к какой работе. Взгляд его васильковых глаз по-детски мечтателен и чист. Для мечтаний у него, действительно, находилось много времени.
В один прекрасный день он чувствует, что его последний час настал. Он созывает своих близких друзей — все они благовоспитанные, деликатные проходимцы, у всех у них такие же мечтательные глаза. Никто из них никогда не трудился, все они прожили свою жизнь по-христиански беспорочно. Уже в юности они уяснили, что не имеют права растрачивать свою драгоценную жизнь на никчемное вкалывание, как-то: рытье канав, строительство домов, обработку полей, уж не говоря о таком неприличии, как приготовление смертельных растворов для симпатичных, лакомых до свеклы, щитоносок. Жили они, как дети, выпрашивая милостыню у близких и приворовывая на стороне, но только у тех, кто чересчур богат и жаден. Бывало, под лодкой они попивали денатурат и размышляли о загадочности вселенной.
«Я хочу показать вам труд своей жизни, дорогие друзья», — произносит наш бедный друг, готовящийся к загробной жизни.
«О, мы прекрасно знаем труд твоей жизни. Мы помним твои волнующие проповеди и высказывания о небе и земле, о жизни и смерти. Ты учил нас любоваться цветком и бабочкой. Как ты покажешь все это еще раз, о кумир души нашей? Ведь это невозможно и не нужно», — ответствуют все четыре друга хором.
«Дорогие мои, я благодарен вам за эти прекрасные слова, которые несут печать величия вашего духа и которые говорят о том, что наши созерцания и размышления на темы Абсолюта не прошли даром, — отвечает наш друг. — Но тем не менее последние двадцать лет я работал за вас, эта работа требовала упорства и твердости характера, так как нередко мне приходилось от голода потуже затягивать ремень, хотя последнего у меня уже давно не имеется. Я приготовил вам вечерю, мои братья по духу, великолепную вечерю, которая и не снилась этим нелепым существам, бестолково снующим по улицам нашего прекрасного города. Так отправимся же все вместе за город, на нашу любимую поляну, там состоится трапеза, которую с полным правом можно назвать Тайной Вечерей. Да, да, именно так можно ее назвать, причем это событие облагорожено тем, что среди вас нет Иуды. Вот пять бутылок той лиловатой жидкости, которую обычно люди используют как горючее для спиртовок, мы же — заправляемся ею сами. Так идем же! Carpediem! [11]
За городом на поляне он усаживает своих друзей под большим деревом, а сам принимается копать землю у камня.
«Что ты там делаешь, наш брат и учитель?» — спрашивают четыре жреца.
И вот они вкушают восхитительнейшее яичное блюдо. Каждому достается по одному яйцу, приготовленному самим ВРЕМЕНЕМ. Они сидят под голубым небом и в порыве благодарности обращают ввысь свои честные глаза.
«Все мои начинания увенчивались успехом», — тихо произносит хозяин пира, складывает на груди руки, затем, тихо и мелодично рыгнув, отправляется… на тот свет.
18
Когда мне принесли градусник, я еще спал тяжелым сном. Я взглянул на дежурную сестру сквозь полуопущенные веки, и мне почудилось, что ее лицо из гипса. Оно показалось мне таким леденяще-белым, что я тут же закрыл глаза. Но холодный овал уже крепко впечатался в сетчатку моего глаза и продолжал существовать под закрытыми веками. Единым взмахом ресниц мои глаза вобрали тонкую алую черточку, пробегающую поперек гипсовой маски, — словно наклеенная на нее полоска блестящей бумаги, — рот сестры.
Холодное стекло жалило меня. Градусник, словно яйцеклад наездника, отложил в темной куще моей подмышки сияющую капельку ртути. Зерно это прорастет в тепле моего тела и даст хрупкий, тонкий, как ниточка, росток. Он поползет вверх по капилляру; мое воображение уже нарисовало, как на верхушке его созревает бутон, набухает, и ртутный цветок раскрывается подобно вспышке холодного синего света, ослепительно озарив потускневшую гипсовую маску и алую полоску рта. Я открыл глаза и вытряхнул обратно в реальный мир это назойливое, тягостное видение.
В комнате было прохладно. Я встал и подошел к окну. Передвигался я без труда, только ноги казались ватными: я должен ступать аккуратно и по прямой линии — иначе они прогнутся.
Окружающий мир казался ярким и холодным. По расцветке он напоминал переводные картинки, которые дети переводят на свои тетрадные обложки. За ночь поднялся ветер; железная кровля скрипела, ветер гнал по дорожке мелкий белый песок. Сегодня, наверно, и не стоит выходить — этот песок забирается в рот и скрипит на зубах.
У покойницкой стоял грузовик, капот у него был казарменно-синего цвета. Вокруг машины суетились люди, одетые в черное. Ветер трепал полы их пальто.
Я снова прилег и, когда сестра забрала градусник, сказав, что у меня пониженная температура, закрыл глаза. За глазным яблоком есть такое место, где тепло, влажно и темно, — подумал я. Я провалился в сон — колодец сна тоже был теплый и влажный.
Меня разбудил стук в дверь. Я не ответил, постучали снова, дверная ручка тихонько опустилась, и в дверь заглянуло широкое лицо Леопольда.
— Вы спите… Нет, не вставайте! Я на минутку.
Не ожидая ответа, он сел на стул.
Леопольд прихватил с собой папку для рисования. «Хочет показать свои новые картины», — догадался я. Вдруг мне вспомнился старик-ижорец, и я понял, что мне придется встать, — ведь у меня не было для выплевывания косточек вишни.
— Наверно, я долго спал. Который час? Десять?
Я сел в кровати.
— Половина двенадцатого, — почему-то победно сказал Леопольд.
Я заметил, что он листает мою коричневую тетрадь.
— Да, муза изящной словесности обошла стороной мою колыбель, — сказал Леопольд, резко захлопывая тетрадь. — Как говорится, она не благословила меня своим поцелуем, но я и не горюю.
Я чувствовал слабость в ногах, а под сердцем пульсировала какая-то странная пустота. Нащупывая под кроватью голой ногой сандалию, я взглянул на свою ногу, — большущая и желтая, она казалась мне инородным телом. Движения ее не подчинялись моей воле; нога будто жила своей жизнью; пальцы согнулись и, подцепив сандалию за верхний ремешок, подтянули ее поближе; затем большая и чужая нога неуклюже, но старательно заползла в свою нору, выставив наружу желтую, рыхлую пятку.
Леопольд все еще разглагольствовал насчет поцелуя музы, но я заметил, что и он с интересом смотрит на мою ногу.
— Ну и желтая, — сказал он даже как-то уважительно. — Я хотел вам тут кое-что показать.
Он вытащил две картины и положил их рядом со мной на одеяло.
— Что скажете? А?
Я разглядывал картины и никак не мог понять, чем они отличаются от предыдущих: покойницкая та же, деревья те же, да и с небом не произошло никаких изменений. На всякий случай я по одной перебрал верхушки деревьев — вдруг там притаилась какая-нибудь новая птица?
— Я так и знал, что вам понравится, — сказал Леопольд, хотя я еще ни единым словом не выразил своего одобрения.
— Не правда ли, здесь вся соль — в двери. Подтекст! Как это принято называть в мире художников.
Неожиданно он вскочил со стула и почему-то на цыпочках направился к двери.
— Я их вам дарю. Ухожу — не хочу мешать вам рассматривать их…
Дверь закрылась. С дверной ручкой он был опять осторожен — она медленно пришла в исходное положение и тихо щелкнула. Но я не услышал удаляющихся шагов Леопольда. Может, он и не ушел? Может, стоит за дверью, прильнув к замочной скважине, весь превратившись в слух.