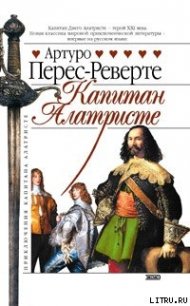Баталист - Перес-Реверте Артуро (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
Где– то в глубине его тела вновь просыпалась боль. Несколько секунд Фольк стоял неподвижно, прислушиваясь к тому, что происходило внутри, и, почувствовав приближение приступа, улыбнулся краешком рта. Так улыбается человек, знающий такое, перед чем боль бессильна. В эту ночь Фольк решил не давать ей ни малейшей уступки; у него попросту не было времени. Поэтому он немедленно принял меры: две таблетки обезболивающего, глоток коньяка. Он поставил бутылку на стол, заваленный тюбиками и кистями, однако, поразмыслив, снова взял ее и отпил еще один глоток прямо из горлышка. Затем вышел за дверь и прижался к прохладной каменной стене, чувствуя дыхание ночной земли и дожидаясь, когда подействует лекарство. Он смотрел на звезды, на далекое мерцание маяка, невидимого за краем пропасти. В какой-то миг ему почудилось, что среди круживших в воздухе светляков мелькнул красный огонек сигареты.
Когда улеглись последние отзвуки боли, Фольк вновь вошел в башню, чувствуя во рту легкий химический привкус растворившегося в желудке лекарства. Он осмотрел пустую поверхность стены, готовый немедленно приняться за работу. И внезапно заметил то, чего не видел раньше. На белоснежном фунте, покрывавшем стену, его глазам предстала еще одна картина, более смелая и необычная. Пустота незаполненного пространства наполнилась особым смыслом. Движимый интуицией, он отложил кисть – не промыв ее и не просушив – и попытался добиться нового эффекта: зачерпнул большим пальцем правой руки смесь краски, остававшуюся на палитре, и осторожно нанес ее вдоль только что нарисованной дороги, превратив ее в бурную горную реку с продольными бороздами течения и гребнями волн, которые трудно было различить невооруженным глазом. К кистям он больше не прикасался. Краски смешивал пальцем – белила, синий кобальт, желтый кадмий и снова белила, получив зеленый оттенок, напоминающий цвет луга, залитого утренним светом, затем серый оттенок, похожий на цвет асфальта, покрывающего развороченное взрывами шоссе, и, наконец, грязновато-синий оттенок неба, застланного дымом пылающих домов. И наконец прозрачно-зеленый, как глаза женщины, которая тоже была частью того утра – джинсы, облегающие длинные ноги, рубашка хаки, светлые волосы, заплетенные в две косички, скрепленные резинками, закинутая на спину сумка с камерами и еще одна камера, висящая на груди. Ольвидо Феррара – такой она шагала по шоссе, ведущему к Борово-Населье.
Она ему что-то сказала – тогда, в то утро. Они проверяли фотографическое оборудование, проведя ночь в подъезде дома, стоявшего на центральной улицы Вуковара, в стороне от сербских гранатометов. Окрестности бомбили; несколько раз вспышки взрывов освещали разбитые крыши домов, но затем наступили три часа тишины. Они поднялись на рассвете; первые лучи зари окрасили город, словно легкая лессировка гризайлью, и тогда Ольвидо увидела фасады пустых домов, землю, усыпанную осколками стекла и кирпича, и сказала, не глядя на Фолька, словно просто выражая вслух мучившие ее раздумья: передать такое способно только воображение, камера бессильна. Затем помолчала, глядя на зловещий пейзаж В руках она держала открытую камеру с наполовину вставленной пленкой. Захлопнулась крышка, зажужжала перемотка, и Ольвидо рассеянно улыбнулась Фольку, словно тревожные мысли, занимавшие сейчас ее голову, остались где-то далеко. Эти типы, добавила она внезапно, Жерико и Роден, были правы: только живопись говорит правду. А фотография лжет.
Чуть позже под белыми кроссовками Ольвидо захрустело – дорога была усеяна осколками снарядов. Слушая этот странный звук, Фольк шел по другой стороне улицы. Он держал наготове две камеры и внимательно всматривался в окрестности. Впереди их ждал перекресток, открытое пространство, которое предстояло пересечь, чтобы выйти на шоссе в Борово-Населье. Впереди шагали хорватские солдаты, еще несколько солдат шли позади. Издалека доносился однообразный приглушенный треск перестрелки, сливающийся с потрескиванием деревянной крыши горящего неподалеку дома. Посреди дороги лежал убитый сербский солдат, настигнутый накануне осколком гранаты. Повсюду виднелись звездообразные воронки. Серб лежал лицом вверх в разорванной осколками одежде. Серая пыль забилась в глаза и открытый рот. Вывернутые наизнанку карманы, босые ноги. Рядом – несколько предметов, не заинтересовавших мародеров: зеленая каска с красной звездой, пустой бумажник, рассыпанные документы, связка ключей, авторучка, мятый носовой платок. Фольк остановился возле трупа, собираясь сделать снимок на фоне горящего дома. Заранее подготовил «Никон ФЗ»: установил выдержку, диафрагму 5,6. Подойдя вплотную, навел объектив: лежащее тело, раскинутые в форме латинской V босые ноги, дырка в носке, из которой торчит палец, скрещенные на груди руки, разбросанные вокруг предметы; справа горящий дом, стоящий углом к дороге. Но не все можно передать на снимке. Невозможно сфотографировать жужжание мух – вот кто истинный победитель во всех сражениях – или запах. Низкое гудение мух, густой тяжелый смрад мигом напомнили ему раздувшиеся тела в Сабре и Шатиле, связанные проволокой руки на мусорных свалках в Сан-Сальвадоре, грузовики, выгружающие трупы с помощью механического конвейера в Колвези: бесконечное упрямое ж-ж-ж. Кто-то сказал, что умелый фотограф способен передать все что угодно. Но Фольк твердо знал – человек, который мог такое сказать, никогда не был на войне. Невозможно сфотографировать опасность или муки совести. Жужжание пули, пронзающей череп. Смех солдата, выигравшего полпачки сигарет, угадав пол ребенка в утробе, которую только что рассек штыком. Для мертвого босого серба писатель, возможно, мог бы найти подходящие слова. Например, жужжание мух: жжжжжжжжжжжжжжжжж. С запахом сложнее. Еще сложнее передать пронзительное одиночество запыленного мертвого тела: некому стряхнуть пыль с убитых солдат. Прав только художник, вспомнил Фольк. «Возможно, так оно и есть», – подумал он; фотография оставалась правдивой, покуда была наивна и несовершенна. В самом начале, когда камера могла передать лишь неподвижные предметы. На старинных отпечатках города кажутся пустынными декорациями, где движущиеся люди и животные – лишь незаметные точки, призрачные следы, предвестники другой более поздней фотографии, сделанной 6 августа 1945 года в Хиросиме: смутный отпечаток человеческого силуэта и лестницы, уничтоженных мгновенной вспышкой атомного взрыва.
Опустив камеру, Фольк увидел, что Ольвидо остановилась на другой стороне дороги, чтобы не попасть в кадр, и пристально смотрит на него. Он направился к ней. Она не сводила с него глаз, словно стараясь запомнить каждое его движение, весь его облик В последние дни он несколько раз замечал, что она смотрит на него как-то странно – сначала украдкой, потом все более открыто, словно хочет записать в памяти все, что с ним связано, каждый миг их долгого странного путешествия, которое вот-вот должно оборваться. У нее в кармане лежал обратный билет. Фольк шагал по дороге, чувствуя бесконечную печаль и ледяной холод. Чтобы отвлечься, он смотрел вокруг, солдаты, дорога, пылающий дом. А вверху синело чистое небо без единого облачка, сияло солнце, которое в эту раннюю пору еще не поднялось и не мешало фотографировать, и длинная тень Ольвидо лежала на покрытой осколками дороге, чья неровная поверхность искажала ее силуэт. На мгновение ему захотелось сфотографировать эту тень с неровными краями, но он не успел. В тот миг она увидела рваную выцветшую тетрадь, лежавшую на земле. Открытую школьную тетрадку в синей обложке. Несколько вырванных листов лежало рядом на зеленой траве. Она подняла камеру, сделала несколько шагов вперед, выбирая кадр, затем еще один шаг влево. И наступила на мину.
Фольк посмотрел на свои руки, испачканные красной краской, затем на окружавшую его со всех сторон фреску. Цвет придавал формам большую выразительность. Но угольные наброски на пустой безупречно белой стене больше не казались незавершенными. В мощном свете галогенных ламп сюжет приобрел цельность, будто на полотнах импрессионистов: цвета, линии, формы внезапно обретали жизнь на сетчатке обращенного на них глаза. Прав только художник, снова вспомнил он: фигуры и пейзажи, а также беглые наброски, едва намеченные силуэты, легкие мазки, широкие смелые линии и цветовые пятна еще свежей краски, нанесенной пальцем на уже нарисованные фигуры или на пустое белое пространство стены, – все казалось ему одинаково правдивым и реальным. Какой долгий путь пришлось ему проделать, чтобы это понять! Существовал тайный иносказательный сюжет, многоплановая перспектива; словно локон или завитки серпантина, он ложился виток за витком по всей окружности фрески, не прерываясь, включая в себя каждую деталь, связывая в единый сюжет корабли, отплывающие под дождем, охваченный пламенем город на холме, беженцев, солдат, изнасилованную женщину и ребенка-палача, умирающего мужчину, деревья, на ветвях которых, словно грозди фруктов, висели тела, битву в долине, закалывающих друг друга кинжалами воинов на первом плане, всадников, рвущихся в бой, мирно спящий город – башни из бетона, камня и стекла. Проявленный видимый мир и бесконечная иносказательность природы. Перед ним лежало все, что он хотел передать: Брейгель, Гойя, Уччелло, доктор Атл – все те, кого похитили глаза и кисти Фолька, дерзнувшего выразить то, что в течение жизни проникало через объектив камеры в Платонову пещеру его глазного дна – пленка и фотобумага играли в работе второстепенную роль. Все накопленное им наконец получило свое воплощение, выраженное математическими формулами, чьи принципы и конечный результат заключал в себе треугольник, завершивший композицию: огромный вулкан – все оттенки коричневого, серого, красного. Криптографический символ, лишенный чувств, безжалостный в своих законах, простирающий языки лавы, словно паутину, чья сеть опутывает все мироздание, включая в себя и трещины в стене старой башни, ставшей основанием фрески, и зарю нового дня, проникшую сквозь окна, и человека, ожидающего снаружи, пока Фольк закончит свою работу.