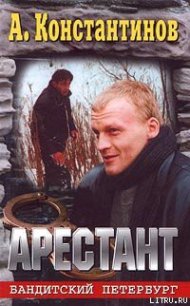Приключения женственности - Новикова Ольга Ильинична (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
— Как — уйдем?! Да мы только начали! Меня зовут Гиви, — церемонно поклонился нахал. — Сашок, организуй девочек!
Сразу стало ясно, кто тут всем заправляет.
— Убирайтесь! — только и смог просипеть Саша.
3. МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Майские праздники были отмечены очередной антиалкогольной кампанией. После двадцати трех ноль-ноль в комнаты вваливались комсомольские активисты, бойцы так называемых оперотрядов и, пьянея от неограниченной власти, шарили по шкафам, перерывали постели, обыскивали душевые и туалеты, вытаскивая запрещенные бутылки и непрописанных лиц обоего пола.
Конечно, были в общежитии и пьянчужки, и настоящие алкоголики. Иные москвичи приезжали и поразвлечься.
«Что нужно, чтобы в высотном здании открыть публичный дом?» — спросили у университетского ректора. «Десять рублей», — ответил он. «Почему так мало?» — «На вывеску».
Была и в этом анекдоте доля правды, но профессиональные нарушители редко становились жертвами запланированного мероприятия. Попадались в основном любители: засиделись на дне рождения, приехали к приятелю готовиться к зачету — дома ночью негде заниматься… А поскольку у добровольной дружины была разнарядка, то в причинах никто не разбирался. Человечность могла привести к сокращению улова, поэтому корректно узнавали фамилию, факультет, курс и направляли списки в соответствующий деканат. Там уж все зависело от местных властей.
Вот в это время и пришла из милиции бумага на Сашу.
— Ну что, тебя уже притягивали к Иисусу? — осведомилась Светлана, когда они все той же рассеянной группой далеко за полночь двигались по Воробьевскому шоссе.
— Да нет, большой синедрион никак собраться не может.
— Кафедра-то тебя защитит? — обманутая Сашиным показным спокойствием, на всякий случай спросила Женя.
Он пожал плечами. Легкая ирония, с которой было принято не только говорить, но и думать о житейских неурядицах, беззаботность, насмешка над вполне реальными проблемами, с разной степенью серьезности стоявшими перед каждым из их компании, постепенно делали встречи необязательными, а потом и вовсе бессмысленными.
Осенью Саше намекнули, что лучше уйти из аспирантуры по собственному желанию, иначе… Механизм обсуждения-осуждения был отработан. Один студент написал жене, отдыхавшей в Ялте, о постыдном процессе Гинзбурга и Галанскова. Письмо пришло, когда жена уже уехала. Бдительная квартирная хозяйка прочитала его и передала куда следует, оттуда было велено автора осудить и исключить. Собрали группу, в которой учился посмевший иметь свое суждение, и буквально каждому приказали выступить, а кто, мол, отмолчится, не произнесет при всех принципиальную оценку идеологического преступления — университет не окончит.
Сашин руководитель хладнокровно дал его ситуации научное определение: «Вы попали в колесо бюрократической машины». И все. Саша написал заявление.
— Знаешь, я даже рад, — признался он Никите, с которым встретился на площади Свердлова, чтобы отметить «окончание» аспирантуры. — Мне у Сеньки все равно бы не защититься. Целое лето промучился и понял: я не барышня, не могу думать только о том, чтобы ему понравиться. А других писаний он не понимает, не любит «отсебятины».
— Ты — и не смог? — ревниво усмехнулся Никита. — Да сочинил бы пародию на диссертацию — и дело в шляпе. А теперь что будет?
— Теперь мы поедем к Алине — она завтра присягает Гименею. — Саша направился к метро.
— Вот это новость… — изумился Никита, не замечавший ничьих романов, поскольку обдумывал свой ни на что не похожий роман о синем Петербурге, философских диспутах начала века, странных любовных отношениях. — Может, еще кто-нибудь из наших сочетался законным браком?
— Да нет, все остальные пока только невесты и женихи.
Один Саша и знал все о каждом из их компании. Изредка возникал даже Борода — звонил, жаловался на жизнь.
До «Динамо» разговаривать было невозможно — шум поезда заглушал не только слова, но и путал мысли. Оставалось глазеть. Сашу обрадовало сходство его хризантем с белым дрожащим пуделем на руках у молодой дамы в белой мохнатой шляпе. Он посмотрел на ее соседку и отметил удачное сочетание теплого серого и ярко-сиреневого. Девушка надменно повела головой и вдруг чуть улыбнулась, наверное, увидела знакомого, непонятно, кого — ее глаза скрывались за большими дымчатыми очками. И только когда девушка весело поздоровалась, Саша признал Инну Аверину.
— Дыша духами и туманами, — скрыл он за цитатой свою растерянность.
— Выделяешься, — одобрил Никита.
В этом странном комплименте не было и тени иронии. Самым презренным считалась незаметность, серость. Конечно, иногда ошибались в оценках — ведь затопляют же в нашей стране целые пространства, не замечая, что в их недрах есть драгоценные залежи.
— Твой папаша имел бледный вид на толковище в Союзе, — скользя безразличным взглядом по вагону, заметил Никита. — Либо клеймить — либо защищать. А он принялся мямлить, что Рахатов, мол, написал много хороших стихов о Москве, но зачем же он борется за Солженицына, который в своих выступлениях плохо о Москве отзывался. При чем тут Москва?
Никита рассуждал немного свысока, но не агрессивно. Его-то отец не оплошал: Борисов-старший еще раньше отказался приветствовать высылку Солженицына, и поэтому обсуждать Рахатова его даже не приглашали.
— А, это его дела. Дочь за отца не отвечает. — Инна говорила об отце как о совсем постороннем человеке. — Ты лучше расскажи-ка о своих подвигах в Коктебеле. — Она перевела разговор на другую тему вовсе не от неловкости. Это был ответный ход, предусмотренный неписаными правилами поведения в их круге.
— Ничего скрыть нельзя! — не без гордости проворчал Никита.
У Саши Коктебель вызывал лишь ассоциацию с Волошиным, к стихам которого он был равнодушен. Произведения Аверина и Борисова он считал беллетристикой, хотя отдавал должное «гражданскому мужеству» отца Никиты, а разговаривая с Инной, старался не иронизировать над милицейскими детективами ее отца.
На «Речном вокзале» заспорили — куда выходить. Саша стал сосредоточенно размещать в пространстве ход поезда, Беломорскую улицу и Ленинградское шоссе. Его уверенные теоретические выкладки, конечно же, вывели всех троих на неправильную сторону.
— Иваном Сусаниным теперь буду я, — провозгласила Инна и сразу узнала дорогу, по которой однажды шла с Женей в гости к Алининому музыканту.
Дверь была не заперта, и они оказались в тесном коридорчике однокомнатной кооперативной квартиры, которую купил хозяину его бывший тесть, известный московский адвокат. Он любил первого своего зятя и осуждал дочь, успевшую после развода еще раз выйти замуж и снова развестись.
— Легки на помине! — Алина чмокнула всех троих. — А мы как раз вспоминали, когда же в последний раз все вместе виделись?
— Твой день рождения отмечали. — В голосе Жени прозвучало недоумение — как это можно забыть!
Сколько раз стояла она перед ночным городом, который раскинулся под окнами ее общежитской кельи, и спрашивала: «Где же ты?» — и умоляла: «Появись скорее!» И перебирала в памяти самые пустяковые подробности встреч с Никитой, как будто перелистывала большую детскую книгу сказок в сером коленкоровом переплете, где между страницами вложен то засушенный лист, то цветок, то букетик. И ждала, что он придет и скажет: «Извини, я долго не звонил. Очень важные дела помешали. Но я пришел, и я люблю тебя».
А много ли было встреч? «Зеркало» Тарковского в Малаховку ездили смотреть, «Мастера и Маргариту» на Таганку, булгаковские места отыскивали — всегда в компании, никогда наедине. Женя поневоле была как бы летописцем их «неформальной группы», как выражался сведущий в новейшей терминологии Саша. Ей были дороги все, кто связан с Никитой, даже задавака Инна.
В кухне места хватало для двух-трех человек, и Женя принялась переносить еду и посуду в комнату. Она старалась сохранить непринужденность, и ей это удалось, если не считать взволнованного позвякивания стаканов на подносе, который она несла. Стола в комнате не было, но Алина привычно постелила на рояль сначала клеенку, потом скатерть. Хозяин дома только что вернулся с тбилисских гастролей и привез оттуда лаваш, ноздреватые белые сыры и травы непривычных цветов и запахов.