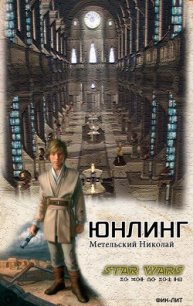Псаломщик - Шипилов Николай Александрович (читать полную версию книги .txt) 📗
3
Отец Глеб ждал нас у кафедрального собора. Мы чуть задержались потому, что по дороге меня вдруг стало мутить.
– Остановись, друг Сальери! – еще пребывая в эйфории, попросил я Юру. – Скажи, ты в курсе, что гений и злодейство – несовместимы? – и зажал рот носовым платком.
– Это ты несвежей водки натрескался, Моцарт, – сказал он. – Беги к киоску – там урна. Сунь два пальца в рот – и пройдись по всей клавиатуре, Амадей. Потом купи мятных лепешек – и жуй, пока я не дам команду «отбой».
Так я и сделал, невзирая на мороз «со с ветром», как говорят старые сибиряки. А у отца Глеба за четверть часа ожидания губы стали синее глаз. Покуда мы крутились, чтобы подъехать к нему поближе, я видел, как он перекладывает из руки в руку старенький свой саквояжик. Завидев нас, он перекрестился и нырнул в теплый салон машины, как в холодную иордань, если судить по его судорожному дыханию.
– Задержались! Простите, батюшка! Благословите! – заорал я весело.
– Астма… х-х-х! – прохрипел он, стуча пальцем по шарфику на груди. – Х-х-х… Благослови тебя Господи, Петя! Х-х-х! Здравствуйте, родные… Х-х-х… Что там… с эллином? Не ближний свет… х-х-х…
– Брат Грека помирает! Ухи просит! – веселился я, уже сознавая, впрочем, неправедность этого хмельного и злобного веселья.
Батюшка спрятался от меня за невидимую стену крестного знамения.
– Ты, Петя – что? того?.. выпивал? Ай-яй-яй! Представь себе, отец, что твой Ваня малой напился? А каково Господу Богу – Отцу нашему – на тебя смотреть?
– Уже все нормально, батюшка, – поник я. – Вы, отец Глеб, насквозь видите…
– Запах, – сказал он. И попрыскал в себя из синенького ингалятора.
– Жуй, керя, таблетки! – напомнил Юра.
– Да отвяжись, гуру!
– Это он на поминках был, батюшка. Мальчишку одного убили, товарища. Вы уж простите его?
– Я прощаю. Бог простит, – сказал отец Глеб. – Ох, отпустило, слава тебе Господи!
– Он когда выпьет, батюшка, то на войну начинает проситься, – продолжал есть меня поедом Юра. – Если не пускают, то он плакать начинает. Что с него взять? Одно слово: контуженый!
Похоже, я приходил в себя. Слова Юры уже не задевали меня, как пули не трогают заговоренного. Ненужные слова, не произнесенные мной, падали у моих ног, висли на губах, как лузга семечек.
– А трезвый-то, батюшка, он у нас, керя-то, мухи не обидит! – развлекался Юра. – Человека – еще куда ни шло, а мухи – ни-ни! Твердое «ни-ни».
– Мух не люблю, – сказал мудрый батюшка. Это значило, что он меня защищает от анпираторского сарказма, если помнить, что слова «сарказм», «саркома», «саркофаг» – одного древнегреческого корня, к которому принадлежит и ушибленный Грека.
Анпиратор понял и переключился:
– А вот дерзну, батюшка, спросить! Вы человек опытный духовно и житейски: соборование – это зачем? Оно помогает?
– Верой и покаянием жив человек. Если веруешь, каешься – помогает, отпускаются грехи. Но у каждого есть нераскаянные, забытые грехи. А грехи, Юра – корень всякой болезни…
– Но ведь нужен собор – семь священников! – прихвастнул своими познаниями керя и со значением покосился на меня в зеркало.
– Где ж их нынче брать, по семь-то на одного? Допущено совершать елеосвящение и по одному! Зерно вот есть, – погладил батюшка саквояж. – Пшеничка…
– О, это Греке подходит! – зубоскалил керя. – Это по его части!
– Да. Господь милостив к людям. Вино есть, из Каны Галилейской присланное… Маслице есть, всё есть – была бы вера…
Я этого спрута Юру с детства знаю. Сейчас пересилю дремоту – отобью батюшку у спрута. Я приемы знаю:
– В машине, надеюсь, подслушки нет. Тебе кто про это сказал?
– Там, в службах, есть один большой человек, туркмен… Он мой товарищ. У нас в Театре киноактера когда-то шла его пьеса. А в девяносто первом, в Москве, когда униженные и оскорбленные неотроцкисты опрокидывали Лубянку, он у меня в грим-уборной отсиживался…
– Я спрашиваю о Греке.
– А-а! О Греке? О Греке моя бывшая жена Наташа сказала. Говорит, этот, мол, Грека на том свете побывал, вернулся и уверовал. А по мне так он был сатрап – сатрапом и остался. Чудеса, бачка! А вот просветите меня, революционера, бачка, по такому вопросу. Разъясните мне, темному и злому: быть революционером или не быть? В стране – война. Сам президент колонулся на ТиВи: войну, говорит, ведут против России. Слышали?
– У меня нет телевизора, Юра. Зачем? В окошко гляну на улицу – слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе! – отвечал дипломатично батюшка.
– Так вот, бачка! Я уважительно отношусь к последовательной защите Православия моим керей, а вашим псаломщиком. Я тоже человек верующий, во всяком случае, принимаю мир всесторонне и с большой буквы. Но ведь правда – она превыше всего, так? Сказано также, что без воли Бога и волос не упадет с головы. Теперь второй вопрос, уже без телевизора: есть ли, по вашему мнению, вина Русской православной церкви за гибель России в семнадцатом грозном году? За то, что народ так сильно захотел освободиться, извиняюсь, от «попов»? Я понимаю: атеистическая власть и прочие издержки новой жизни! Но семьдесят лет в каждом доме не дремал чекист – адепт мировой революции! Разве при царе-мученике церковные клирики не были виноваты в том, что простому человеку стало невмоготу? Кстати, в театральных амплуа простак – значит дурак. Этот дурак ухватил былинную, извините, дубину, размахнулся и с размаху снес все без разбора! Может, снес и то, что вовсе не надо было сносить, бачка. Разве он один, а не пастыри его иже с ним повинны, что в этом антигосударственном отрицании, бачка, он отдал власть врагам своей жизни, своим участием дал им победить? А вспомните строки несчастного дистрофичного неопохмеленного Блока! Кто идет впереди его революционных матросов? Христос! Так? Он что, бачка, на пустом месте возник? Значит, была со стороны пастырей ложь, служение не Богу, а власти. Значит, было и забвение правды, которой жил народ. Угасла, стало быть, искра Божия. Ленин дал простолюдину свою искру, и свою правду! И разве сегодня эрпэцэ не то же самое совершает? Мне кажется, что Иисус Христос ищет новых матросов.
– Заткнись, керя, – сказал я. – Что ты заладил: бачка, бачка! Выискались: благородный цыган Волонтир и сто коней в одном движке! Еще Гапона вспомни, инсургент! Это он, батюшка, какую-то новую роль разучивает!
Наша детская дружба давно превратилась в марафонский забег двух упрямцев: места уже распределены, призы розданы. Судьи пропивают гонорар. Болельщики болели-болели – умерли, а мы с ним все еще на дистанции. Побежали весной в спортивных трусиках – и вот он, падает снег, а нам не холодно. Это уже никакая не дружба – это родство больных душ. Мало ли?
– Насчет стаканей молчи, пивец! – легко издевался Юра. – А кто это такой – Гапон? Из краевой филармонии, что ли?
– Из консерватории! – говорю я.
– Пусть говорит, тема знакомая. Помешкай, Петя, – успокаивает меня батюшка.
– Наверное, знакомая, бачка! И лично вас – упаси Бог! – я не обвиняю. Я читал, что сам владыко Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, говорил, что потворствовать антихристианской власти есть величайший грех. Но снова жизнь русского человека требует громадного напряжения сил. Власть христианская по форме и антихристианская по содержанию, не так ли? Так? Так ежу в зверинце сие понятно. А где их, эти силы, черпать? В непротивлении? Им того и надо! Тогда плюнь, Петюхан, керя мой дорогой, и отрекись, благодетель, от своих товарищей, от тех, кто остался на баррикадах! Ну? Давай, плюй, кормилец! А жену отдай дяде, смирись! А у него, батюшка, у кери моего, – сын Ванька! Малый такой Ванька, несмышлёный. Вы его, андела, знаете. И что? Смирись, Ванька, будь агнецем, да? Будь покорным барашком, когда тебя бьют и плакать не дают. Ему дяденька в чалме или в кипе байт: «Дай, Ванятка, я тебя по щеке смажу!» А Ванятка-то наш Петрович: «Пожалуйста, мистер! Я сей же час и другую щечку подставлю-с!» Про ножички – по умолчанию. «Расти, Ванятка, пока я кынжял точу!» Так? Пока какой-нибудь тихий инок будет сухари с водой грызть да думать, разумно ли воевать, грубый материалист его попросту убьет. По стенке еще и размажет!