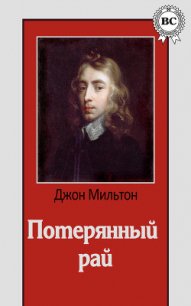Бедлам в огне - Николсон Джефф (онлайн книги бесплатно полные .txt) 📗
По любым стандартам тексты были никудышными; наверное, не равноценно никудышными – одни чуть лучше других, – но, начав читать, я быстро растерял представления о хорошем и плохом, о том, что лучше и что хуже. Казалось, мне попалась самая худшая из отстойных папок (хотя я никогда не имел дела с отстойными папками), и потому первым моим побуждением было отвергнуть все целиком.
Но я не мог просто выкинуть сочинения, поскольку такой поступок был столь же неуместен, сколь и глуп. Вскоре я обнаружил, что если и не получаю удовольствие от чтения, то по крайней мере терплю его. С каждым днем поступали все новые порции писанины, и я осознал, что есть в ней нечто притягательное. Сочинения были такими, какими были, – в этом и крылись их ценность и достоинство.
Поэтому я перестроился и стал принимать сочинения терпимо и даже радушно. Теперь я почти ждал каждой новой порции, каждой новой партии. Это не походило на ожидание новой серии телефильма, на желание узнать, что сталось со знакомыми персонажами; мое чувство скорее напоминало ожидание утренней газеты. Вы не знаете, что именно обнаружите в утреннем выпуске, но в то же время у вас есть определенные и вполне реалистичные предположения, которые в общем и целом оправдываются. Сочинения пациентов перестали меня удивлять, став при этом существенной частью моего быта, моей повседневной жизни.
Дальше – больше: я пристрастился к сочинениям, хотя прекрасно понимал, что пристрастие это явно излишнее. Вне зависимости от моего отношения к этим работам, вне зависимости от их достоинств, я обязан их читать, беседовать о них с больными, что-то делать со всей этой писаниной. В идеальном мире я, наверное, предпочел бы вызывать пациентов поодиночке и разговаривать с глазу на глаз. Я видел себя в роли современного молодого ученого: модного, доступного, склонного к беседам о рок-поэзии и тому подобном. Но, к сожалению, такое было невозможно. Поскольку никто не признался в авторстве, единственным вариантом оставались групповые семинары.
Мы собирались в лекционном зале, я почти наугад выуживал из стопки какое-нибудь сочинение, а затем просил кого-нибудь из пациентов прочесть его вслух. По закону больших чисел время от времени кто-то наверняка читал собственную работу, но никто ни разу не признался. Лучшими чтецами были, пожалуй, Реймонд, Черити и Чарльз Мэннинг, что бы в таком контексте ни понималось под словом “лучшие”. Байрон, несмотря на свою поэтическую наружность, читал из рук вон плохо. Карла, как и ожидалось, была совершенно безнадежна. Она абсолютно не умела читать напечатанный текст, то и дело сбивалась на отсебятину, которая вполне могла быть интересной – но не была. Сита, разумеется, не читала никогда. Я мягко и без нажима предлагал ей выступить, но она лишь молча смотрела на меня большими темными глазами.
После чтения вслух мы переходили к беспристрастным и абстрактным разборам наподобие описанного А. А. Ричардсом. Мы рассуждали о том, что, по нашему мнению, “хотел сказать автор”, какие для этого использовались языковые средства, как метафоры и образные обороты способствовали выражению мысли автора, а если не способствовали, то почему. Затем мы обсуждали, как можно было бы улучшить произведение, как усилить его, сделать более выразительным. Говорили о структуре произведения. Говорили о словарном запасе и стиле автора, а иногда даже об этимологии того или иного слова. Наши занятия выглядели очень серьезными, литературными, высоколобыми, но не следует забывать, что дело происходило в дурдоме.
Как-то раз мы сидели в лекционном зале, расставив стулья по кругу, и я протянул текст Морин, попросив ее прочесть. Поначалу она, как и все прочие, взялась за это дело с неохотой, но, судя по всему, текст не вызвал у нее больших сложностей. Она прочла, что застежка-молния изобретена в 1893 году У. Л. Джадсоном из Чикаго; что город Сент-Олбанс назван в есть святого Альбана; что отец Таллулы Банкхед [47] был конгрессменом, а ее дед – сенатором; что барон Жорж-Эжен Гауссман перестроил Париж в 60-х годах XIX века; что персик сорта “мелба” назван в честь Нелли Мелбы, австралийской Флоренс Найтингейл; что норвежцы избавились от крыс, пропитав белый хлеб щелоком с сиропом; что футболистов клуба “Честерфилд” прозвали “дылдами”; что Бенджамин Франклин изобрел кресло-качалку; что лишь семь стихотворений Эмили Дикинсон были публикованы при ее жизни; что в любой момент в земной атмосфере происходит тысяча восемьсот гроз; что подземные ледники для хранения продуктов были известны в Китае еще в 1100 году до Рождества Христова. И еще много чего в том же духе.
Дочитав до конца, Морин села, и я спросил:
– Ну и что мы об этом думаем?
– Говно, – высказался Андерс.
– Нет, не говно, – глубокомысленно возразил Реймонд. – Но и не шедевр.
– Я больше двойки не поставил бы, – сказал Чарльз Мэннинг.
– Я бы не поставила больше миллиона миллиардов, – сказала Карла.
– А мне понравилось, – сказал Кок.
Еще несколько человек согласились, что им тоже понравилось.
– Да, мне тоже понравилось, – произнесла Морин. – Мне нравилось читать, особенно про футбол.
– Хорошо, – вступил я, – одна из причин, почему нам нравится или не нравится то или иное произведение, заключается в том, затрагивает оно наши интересы и пристрастия или нет. Какие могут быть другие причины?
– Я не понимаю, как литературное произведение может нравиться или не нравиться, – проговорил Байрон. – Мы не оцениваем литературный текст. Он оценивает нас.
После этакого заявления наше обсуждение увяло, пока Андерс не сказал:
– А мне понравилось, потому что это охеренно забавная штука.
– Ты же говорил, что тебе не понравилось, – спокойно возразил Кок.
– Я говорил, что это говно. Я не говорил, что мне не понравилось. Есть время и место и для говна.
– И что забавного вы нашли в этом произведении? – спросил я.
Андерс пожал плечами, вместо него ответил Реймонд:
– Оно забавное, потому что правдивое.
– Во всем ли правдивое? – спросил Чарльз Мэннинг. – Я, например, не уверен, что в любой момент в мире происходит тысяча восемьсот гроз.
– Да, – согласился Кок, – и я сомневаюсь насчет Бенджамина Франклина и кресла-качалки.
– Разве имеет значение, правда это или нет? – спросил я.
– Что?
– Может, в этом и заключается смысл? Может, это шутка, – предположил я.
Они в недоумении уставились на меня. Честно говоря, я сам не очень понимал, куда ведет нить моих рассуждений, но тут за дело энергично взялся Байрон.
– Думаю, Грегори говорит о неопределенности, – сказал он. – Ненадежные рассказчики, ложь, которая выдает правду.
– Не хотите рассказать поподробнее? – спросил я, прекрасно зная, что он хочет.
– Я считаю, что в данном произведении автор пытается установить дихотомию между миром сотворенным и миром наблюдаемым, между фактом и вымыслом. Автор использует язык бесстрастия, и все же сочинение звучит драматично. В нем говорится о мире, где есть как молнии-застежки, так и святые, как молнии обычные, так и персики “мелба”. Автор раскачивается между банальным и возвышенным, и, возможно, весь смысл в том, что здесь нет никакого противопоставления. Поэзию не только можно творить из всего – поэзия уже существует во всем. Нет такой темы, которая не годилась бы для искусства.
– Эк загнул, – пробормотал Макс, выходя из пьяной дремы.
– Сильно сказано, – согласилась Черити.
– Но прав ли он? – вопросил Кок. – Неужели там действительно все это есть?
Меня так и подмывало сказать: спрашивайте не меня, спрашивайте автора, – но я уже так говорил, и без всякого результата.
– Если Байрон сумел выловить все это, значит, там оно есть, – сказал я.
– А если я выловлю там желание раздеться и устроить пляску дервишей? – заинтересовалась Черити.
– Это ты выловишь даже из газеты рекламных объявлений, – заметила Морин.
– Я так выловил там желание оторвать башку одному мудиле, – сказал Андерс. – Наверное, это моя личная точка зрения.
47
Таллула Банкхед (1902 – 1968) – популярная амеиканская актриса театра и кино.