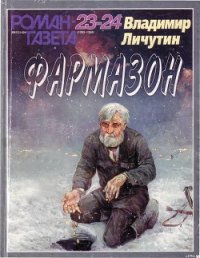Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
– Я молодой. Я всех вас переживу...
– Живи, милый, живи, сынок. Кому-то нас, старых колотух, надо закопать. Хорошо, кладбище близко...
Мать с сыном перепирались, вели свою заунывную музыку, и третий для них был явно лишним. Какой судья, какой адвокат!.. Один лишь рот еще открывал, а другой уж знал, что услышит. Но в этой перебранке тон, конечно, смущал, та грубость обижала, с какою выговаривались слова, и заведомая неправда обвинений с обеих сторон угнетала. А мне в чью защиту прикажете встать?
– Не бойся, всех закопаю, поверх земли не оставлю, – засмеялся Гаврош.
– И у тебя давление, огоряй. Живете, чтобы только кишки нажечь. Пьете и пьете без меры. Стукнет, как Ваньку Моршанова. Как начало его трясти, руки-ноги не собрать. Приехал фершал, на грудь сел, остановить не может. Кидает мужика в потолок. Фершал говорит: ничем не помогу, у него нервенный паралич. Уехал, а Ванька через неделю и душу Богу отдал. А ты говоришь...
– Он старик... Сколько еще коптеть. А я молодой и пьяным-то не был. Гляжу, в сенях три старухи, и одна мне в глаза вот так... – Гаврош сделал пальцы козой.
– Вот она белая горячка и прозывается...
Гаврош уныло трогает фиолетовый набухший желвак, посреди которого полузакрывшийся белесый глаз напоминает фасолину.
Я лишний в чужой избе, мне грустно, одиноко, но и жаль всех, беспутных, потерявшихся, кому мир стал вовсе чужим. Сколько людей оказалось выбитыми из колеи... Бредут, одинокие, средь топей и глухих урочищ, а впереди ни гласа, ни спасительной свечечки. И как-то язык не повернется ругать Гавроша; скажешь укоризненное слово, а будто облаешь себя, до слезы унизишь. Потому сижу и молчу.
Анна словно бы проникается моим состоянием, глухим, жалостным голосом увещевает:
– Артем, милый, не пей больше... Я умру, как станешь жить?
– Не буду, мать, больше не буду, – ухмыляется сын. – Ну, разве сегодня еще выпью – и завяжу.
Уныло шуршит дождь по крыше, серый свет едва струит в окно. Осеня подступают. Пора попадать в городские квартиры.
Глядь, Марьюшка вышла во двор, покрытый пленкою воды, похожей на иней. На ногах глубокие блескучие калоши, синий макинтош до пят, на голове полиэтиленовый пакет. Сцепила на спине пальцы в замок, как невольница, вперила взгляд на кладбище, заштрихованное дождем, на почерневшие развалины церкви. Вот так, застыло, будет стоять битый час, пока не тронешь за плечо, похожая на тропическую бабочку с намокшими крыльями. Взглянет, не испугавшись. Личико бурое, посекновенное, с твердыми, безмясыми яблоками скул, в глазах напряженная мысль. Однажды вот так же подкрался к Марьюшке, спросил с легкой насмешкою: «Мама, о чем думу думаешь?» – «А все думаю, сынок, зачем я родилась?» – «И чего?..» – «Да так и не пойму. Раз родилась, то кому-то это было нужно?» – «Мне, мама, мне...»
Над моим плечом, глядя в окно, склонилась Анна, дышит натужно, как будто в груди ее качают мехи.
– Скоро и вы съедете. Снегом все занесет... Слова будет не с кем сказать...
– А по мне, дак настоящая жизнь только и начнется, – засмеялся Гаврош.
14
...Я раздернул сосновые заворы в дальнем углу изгороди, вывел «Запорожец» из стойла на проселочную скрытную дорогу, что, задевая край деревни, мимо кладбищенского бора и частых болотных круговин убегала на большак. Ну, «божья коровка», не подведи, милая, мысленно воззвал я к машинешке, в эти минуты незыблемо веря, что и в этой мешанине кое-как прибранного, непутевого железа живет своя понятливая, добрая, безотказная душа. Не отсюда ли и родилось это присловье: «Женщина любит ласку, а машина смазку»...
Мотор бунчал неровно, с перебоями, словно бы внутри колотился черпак о пустую кастрюлю, изредка всхрапывал, как саповая кобылица, готовая захлебнуться в кашле и смертно пасть на колени. Не дождавшись матери, я нетерпеливо направился к избе, но поторопить старую не решился: приневолить коли, дак всю дорогу себе обузить. Лучше минуту какую потерять, зато с мирной душою усядешься за руль...
Марьюшка в черном долгополом пальто, похожем на казачью бурку, наверное, уже в сотый раз обходила сиротеющее в зиму подворье, осматривала углы, вспоминая, не позабыла ли что убрать, и тут же покрывалась мглистой печалью, когда закрепляла все потайки жилья размашистым спасительным крестом. Анна возвышалась колокольнею на приступках крыльца и дозирала из-под ладони на отъезжающую, чтобы не мешать ей в крайние минуты прощания и не сунуться с корыстовым лишним словом. Марьюшка остановилась, как бы споткнувшись, еще раз охватила уже всю изобку взглядом, бормотнула: «Матушка Спасительница, сохрани и помилуй... Заступничек Илья, дай доброго спутья... Крепко я тут нажилася, да, пожалуй, и хватит. Надо в свои края попадать. Могилка торопит». Поглядела тут на соседку и как бы позвала к себе.
– Да будет тебе худое кликать, – сказала сердобольная Анна, сдвинула кроличий треух к затылку.
– Хорошо тебе говорить... Меня соплей можно перешибить, а тебя и богатырю за сто лет не прожевать, хоть бы и всю медом да сметаною обмажи, – с насмешливой грустью откликнулась Марьюшка. – И как с тобой мужик-то варачкался?
– Не помню, милая, не помню... Не богатырь был, а кабыть, и на руках носил, – подделываясь под тон Марьюшки, улыбнулась Анна. – Деревья-то вон какие, под небеса, а в одну ночь рушатся. Тебя, девка, другомя одеть, так хоть нынче сватов засылай. У худых-то червю нечего кушать, вот и скрипят до веку, а то и боле...
– Нажилась. Не хочу боле молодой быть. Так не годится. Старого человека не переделаешь...
– Я тебе к свадьбе новую кофту свяжу. Так же в зиму нечего делать, а вечера долгие, не с кем слова молвить. И за стенкой никто не зашебаршит. Разве мыша какая... Оставалась бы, вместях станем жить, две головешки.
– Прощай, Анна... Спасибо тебе за кофту. Одежда-то, кабыть, будет нова, а человек-то останется старой...
– Ты пошто так нехорошо говоришь, Марья Стяпановна? Спасибом у меня не отделаешься...
– Хорошо говорю, деушка. Поеду осенесь на родину. Родные могилки ждут, некому доглядеть.
От этих жестких слов мраком опахнуло мою душу. Нет, не могли миром съехать из деревни, последнюю минуту да подпортила старая. Я отвернулся, в сердцах пнул на гряде ком земли; вдруг вывернулась из-под ноги морковина, похожая на ножонку целлулоидной куклы, бледно-розовая, в ранних белесых волосенках, словно покрытая изморосью...
– Подбери, подбери, добром не пинайся, – ворчливо утыкнула Анна, по-крестьянски как-то все примечая вокруг. – В городах-то задарма не давают, там все покупное, со своего кармана. – И тут же скинулась на Марьюшку: – Ну и как ты там, старая, жить-то думаешь худым умом?
– А вот проживу, – откликнулась Марьюшка. – Как прежде жила, так и жить буду за пазухой у Христа... Кур мерзлых в лавке часто давают. Много ли мне одной надо? Возьму да супу наварю, на неделю мне и хват. Там кур почто-то часто выкидывают. С Америки-то везут, дак надо куда-то девать. А нам-то и надо старым...
– Все, мать, все. Как бы нам тут не зазимовать. – Я решительно оборвал досужее толковище, которое никак не приближалось к краю. Соседки, не поручкавшись, низко поклонились друг дружке. Марьюшка не сдержалась, вдруг порывисто подскочила к Анне, головенкою прижалась к ее груди... Лицо ее забурело, задрожали щеки. И у меня в груди стеснилось. Я отвернулся, пошел к машине. «Божья коровка», краснея крутым боком под черной елью, бормотала сама с собою, пускала сизые колечки дыма.
– Давают... выкидывают, – ворчал я, неведомо на кого злобясь. Не на матушку же, что свернулась клубочком, уткнула голову в колени, только чтобы не знать ничего, не помнить, хотя бы на этот долгий, утомительный путь. Но раздражение невольно переносилось на нее и на тряскую по моховым кочкам и узловатым кореньям вихловатую дорогу, пробитую местным шоферюгою, может, и Славкой-таксистом, что упокоился этим летом на погосте, и на темный елинник, развесивший густые подолы, и на сухостой, что имеет мерзкую привычку падать именно в прогалы, на колею, ставя засеки на пути. Надо выходить из машинешки, растаскивать трупье, отрубать вершинник, потеть и мокнуть под знобким ситничком, канючившим с небес. – На-ко, выкуси... Кто-то ей подаст... На чужой каравай рот не разевай, а лучше за своей коркой подглядывай. Из-под носа утащат даже у нищего с сумою, что Христа ради просит...