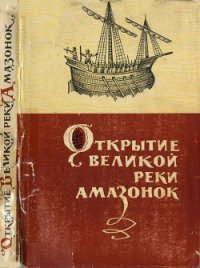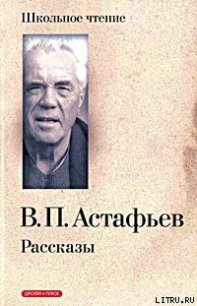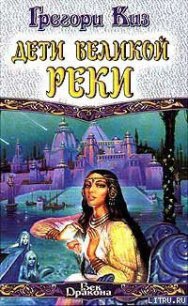Плацдарм - Астафьев Виктор Петрович (книга жизни txt) 📗
Начальник особого отдела сперва зарделся краской стыда, а потом, должно быть, вспомнил, кто он и к какому месту приставлен, почуял, что крепкое обоснование можно делу дать:
— Так ты, значит, из переселенцев? Кулачок, значит! Так-так-так!
— Так-так-так, — говорил пулеметчик, так-так-так, — отвечал пулемет, — передразнил Боярчик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. — Вам бы с вашей, доблестно сражающейся хеврой, среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожной и внутренней очиститься.
Особняк оторопел — мальчишка, с печальными глазами, вдруг разгоревшимися на бледном и нежном лице, мальчишка, с той незащищенностью во всем облике и непоколебимой уверенностью в незыблемости добра на земле, дерзил ему, начальнику особого отдела гвардейской бригады! Да перед ним офицеры, гренадеры бравые — в галифе мочатся!
— Ты вот что, сосунок, — скривил он губы, — суд тут бывает скорый, но правый, можно штрафную взамен смерти получить, а можно и…
— Вот это «и» оставьте для себя, оно еще вам пригодится, а я — чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет.
— Да ты!..
— И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного, растаптывать растоптанного, не боюсь я тебя, как видишь. Ты и сам всего боишься. Бояться надо не тебя, а тех, кто таких, как ты, породил.
— Пошел вон, щенок! Учить он меня будет…
— Вас не учить, вас переучивать…
— Пошел вон! Дежурный!
Заведшийся, знающий наверняка: больше он рта нигде не посмеет открыть, охолонет, успокоится, покорится, Феликс на ходу уже продолжал дерзить:
— Впрочем, олухов и паразитов учить — Божье время зря терять. Их только прожаркой, как вшей…
— Ты чего язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно!
— Сам говно! — сверкнул глазами напослед обернувшийся Боярчик, — еще от рождения и… — дежурный волок из землянки особняка упиравшегося, в истерику впавшего солдатика. — И бригада ваша говенная, трусливая, подлая!..
Начальник особого отдела настоял, чтоб в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, негромоздкий. Побаиваясь близко бухающей передовой, дело свое трибунал произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, на вопросы отвечал не юля, не запираясь, сожалел только, что командир батареи ни до суда, ни после суда на глаза не появился — он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесо-то, но умелый, аккуратный командир в четвертой батарее от суда уклонился. А вот Азат Ералиев сочувствовал Боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала, Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. «Ишь ты, какой наблюдательный! Токо раньше надо было о своих наблюдениях доложить, тогда я бы на твоем месте был, а теперь ешь суп и не мяукай…»
Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азат Ералиев налил ему чуть не полную кружку водки — пробить дыру в середке, — сказал. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся — третьего орудия в лесном закутке уже не было.
Неловкость батарейцам была в том, что после суда осужденного забыли на батарее, бросили, и он болтался без дела.
«Да вы скажите, куда его доставить?.. Мы сами…» — услышал Феликс из землянки командира батареи.
Наконец-то, в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика отвезли в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась, свозилась, доставлялась преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один конвоир с четвертой батареи:
— Эх, парень, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо!..
А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с Боярчиком и отворотился, ускорил шаг.
— Я сниться тебе буду, тварь! — неслось ему вослед, Наука клубного работяги Зеленцова, слова его не пропали втуне.
Еще один день, смертельный, длинный день на плацдарме подходил к концу, заканчивался в тяжелой тревоге и неведении: будут завтра живые люди, населявшие клочок земли, волей провидения выбранный ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдарм в ночь.
Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себя доведшие до исступления и смертельной усталости люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой, ими многажды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтpa снова заняться избиением друг друга, нести напророченное человеку, всю его историю, из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие.
Что тут могла значить горькая доля одного маленького человека? Но, может, с нее, с той, незащищенной, братьями преданной жизни, все и начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата более слабого — и никто того не защитил?
— Значит, так ты и влепил этой шкуре? — выслушав историю Боярчика, спросил Булдаков. — Да-а-аааа, ситуация!.. Однако, пока жив — живи.
— Мы их достанем, мы еще потолкуем с ними! — шевельнулся в темноте Шорохов.
Ночь была осенняя, студеная, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире, лишь река угрюмо темнела меж сверкающими берегами, местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, бьясь о берег, позванивало крошево ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало воронье. У немцев трещали движки и дымились кухни, начала работать агитационная установка, и так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.
День четвертый
Лейтенант Яшкин проснулся, постоял очумелый, огляделся. Коля Рындин, вроде бы по доброй воле исполнявший обязанности ординарца комбата, полил Яшкину на руки. Ротный чуть освежился водой. Коля же дал Яшкину две горсти яблочек-падалиц и комок размоченного, в грязное тесто превратившегося хлеба. Варить, даже зажигать что-либо в расположении батальона было строго запрещено. Щусь назначил Яшкина на ночь дежурным по батальону, сказал, что целых два отделения весь день дрыхли, земли не копали, так чтоб ночью на постах и в боевом охранении не вздумали прикемарить. Немецкая разведка непременно сунется разузнать, кто это шебуршится под боком, какая сила и сколько ее тут?
— Предупреди постовых и боевые охранения — если проспят фрицев, старшему без всяких судов расстрел. Я прилягу. Когда связь подосвободигся, постарайся намекнуть командиру полка или прямо левому берегу, что мы хоть и передовой отряд, но тоже жрать охота, запасной же паек — два сухаря и банку консервов на брата — славяне съели еще на своем берегу, чтобы врагу ничего не досталось.
Комбат шутил мрачно и сонно, укладываясь под глиняный навес, на жидкую подстилку из полыни. Уже натянув на голову полу телогрейки, откинулся:
— Да, вот еще что: по телефону запросили данные на всех, кто с тобой остался, и на тебя. Уцелело вас из двух рот и взвода разведки аж тридцать шесть человек. Трепачи-связисты вызнали: все вы представлены к званию Героя Советского Союза и, кстати, разрешено уцелевшим переправиться на левый берег, если сумеете.
— Мы же отрезаны.
— Знаю. Но знаю также, что Нелька за ранеными на лодке плавает. Попробуй с нею.
— Нелька, Нелька, где твоя шинелька? Пусть она раненых и плавит, мы покуль целы, хоть и пахнет от нас говном с перепугу, вместе с вами побудем, — постоял, вздев рыльце в небо, — мы ведь ничего там путного и не сделали. Сидели под берегом, и нас немцы помаленьку выбивали.
— Отвлекали противника во время переправы, то не дело? Ну, лан, я поехал, — совсем заторможенно промолвил Щусь и уснул, но еще какое-то время слышал Яшкина. Как и в прежние времена, любил Володя поворчать: