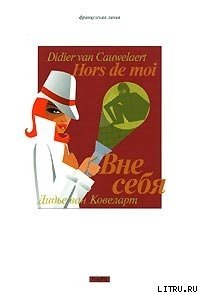Запредельная жизнь - ван Ковелер (Ковеларт) Дидье (книги полностью бесплатно .txt) 📗
– Каждый, кто хочет сказать несколько слов о покойной…
– Да это не она! – закричали со всех сторон сразу и замахали руками.
– …может выйти и сделать это по окончании службы.
Кюре снова нажимает клавишу магнитофона. Одиль с ничуть не пострадавшим пылом выводит «Господи, помилуй». Из третьего ряда слышен сдавленный хохот – братья Дюмонсель сидят с багровыми лицами, судорожно сцепив руки, стиснув зубы и глядя в пол. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не изойти волнами заразительного смеха. Ошибка старого кюре сбила с моих приятелей благопристойную печаль и воскресила память о наших школьных шкодах. Жан-Ми про себя вспоминает самые дурацкие шуточки, а кое-что шепчет вслух братьям, те добавляют что могут. Вот это самое подходящее настроение для данного момента. Я погружаюсь в стародавнее веселье, как в мягкую пуховую перину; мне тепло, уютно и спокойно, как в детстве, когда по утрам в Пьеррэ я нежился в постельке и сквозь сон ощущал знакомые звуки и запахи – на кухне для меня готовился завтрак. Чего только мы не откалывали: взять хоть хлопушечный концерт в церкви или переполох среди курортниц, когда мы вылили в целебный источник флакон текилы…
– Пиф-пиф-паф и пуф-пуф-пуф!– шепотом запевает Жан-Ми под «Господи, помилуй», наклонившись к братьям.
– Тара-тара-тарарах! – подхватывают Жан-Гю и Жан-До. – Бравый генерал Бабах!
Это из оперетты Оффенбаха «Герцогиня Геролльштейнская», которую мы поставили в школьном театре, с Одилью в главной роли, вместо «Затворников Альтоны» Жан-Поля Сартра, на которые начальство предлагало субсидию.
– Вы сами не понимаете, какие губите в себе задатки, – печально сказал мне месье Мину, возвращая тетрадь с сочинением, которое оценил восемнадцатью баллами из двадцати возможных, через несколько дней после спектакля, где я высмеял его в образе генерала Бабаха.
Зато сейчас я все понимаю. Понимаю, что внес свою лепту в многолетнюю травлю бедняги учителя, которую безжалостно вели поколение за поколением балбесов-учеников. Развалина в инвалидной коляске – наш поверженный враг. Я вдруг отчетливо увидел, как Жорж Мину стоит перед своими развешанными на стенке дипломами, приставив к подбородку дуло пистолета. Сколько раз одиночество, издевательства учеников, разочарование в жизни доводили его до грани самоубийства? И не случайно Альфонс, хотя и совсем из других соображений, выставил его передо мной. Учитель-словесник да еще Одиль – это, пожалуй, единственные два человека мучить которых доставляло мне удовольствие. И вот сегодня они тут, в полусотне метров друг от друга, одна поет ради спасения моей души со всем жаром незамутненной любви другой меня не помнит. Ты была права, Одиль: я стал мирным. Но гордиться мне особенно нечем.
– Помяни, Господи, преставившуюся рабу Твою Маргерит…
Братья Дюмонсель заразили смехом еще шесть рядов. Благочестивые католики трясутся, зажимая рты, и слезы катятся у них из глаз. Они не хотят смущать аббата Кутана, он же, видя такую бурную скорбь, считает ее показной и невозмутимо продолжает отпевать чужую покойницу. Между тем даже отец с Фабьеной пыжатся и кусают губы, чтобы удержаться в рамках приличия. Фабьена прелесть: как она махнула рукой шокированному дикой накладкой певчему – пусть все идет как идет! Зато Люсьен в бешенстве вертит головой направо и налево, шикает на соседей и возмущенно толкает в бок мать и деда.
– …в Тебя верила, на Тебя уповала, избави ее, Боже, от адских мук…
– Извините, это можно компенсировать.
Кто-то заговорил со мной. Кто-то появился в моем измерении. Это открытие мгновенно оторвало меня от наблюдения за происходящим в часовне. Глуховатый скрипучий голосок проникал мне в самую душу и наполнял восторгом. Наконец-то я не один!
– Приходите в пять часов в Вилларше. Там он будет вместо меня отпевать вас.
Не может быть! Наверное, мне просто почудилось, оттого что я слишком хотел встретить себе подобных. Или это желание в конце концов кого-то из них привлекло? Слова, которые я слышу, рождаются внутри моего сознания, и я не решаюсь ответить, боясь оборвать контакт.
– Мне было девяносто девять лет, а эти олухи все ждали, когда исполнится сто, чтоб я задувала их дурацкие свечки! Очень мне нужны эти церемонии! Двадцать лет никто не являлся, все откладывали до юбилея! Ну и ладно. Я им ничего не оставила. Никто никогда не узнает, где спрятаны мои золотые. Отлично!
Меня вернул к реальности звонок. Две трети мужчин спешно полезли во внутренние карманы пиджаков.
– Благодать Господа нашего да пребудет с вами…
– Я на совещании, перезвоню позднее, – пробормотал директор водолечебницы и отключил мобильный телефон.
Сколько минут я отсутствовал? Кюре отошел от микрофона и жестом пригласил желающих произнести надгробное слово. Люсьен с решительным видом встает, подходит к кюре, тащит его за руку к самому гробу и указывает на свой венок с надписью «Лучшему из отцов». У аббата Кутана отвисает челюсть, он смотрит на певчего, а тот в подтверждение сокрушенно разводит руками. Страшно сконфуженный, кюре рассыпается в извинениях, трясущимися руками перебирает листочки с записями на сегодня и роняет их на пол. Не пытаясь подобрать их и не утирая хлынувших слез, он в полном отчаянии, сгорбившись, возвращается к алтарю.
– Ничего не понимаю, – шепчет он, весь дрожа.
– Да вот, – ободряет его Эймерик и дает мой листочек.
– Что же, начинать отпевание сначала…
– Нет времени, через полчаса у вас крещение в Мукси…
– Мой отец… – срывающимся голосом выкрикнул Люсьен в окончательно издохший микрофон, – мой отец, конечно, не хотел бы, чтобы о нем плакали, но это не значит, что можно смеяться! Вам-то что, это не вы потеряли отца, иначе вы бы знали… а я так любил его и… и…
У него перехватило горло.
– Помолимся о его душе, – мягко подсказал ему кюре, тронутый глубоким чувством мальчугана, сквозившим в сумбурных словах.
Люсьен вернулся на место, заливаясь слезами. Его жгло унижение, которое причинили мне, тяготил груз приготовленной со вчерашнего вечера и оставшейся невысказанной речи. Фабьена хотела обнять и утешить его, но он резко отвернулся. У микрофона его сменил папа. Он выразил надежду, что я встречусь в раю со своей матерью, и попросил всех, кто меня любит, молиться об этом. Я никакого эффекта не ощутил, однако им это, кажется, дало облегчение.
Я попытался восстановить связь со старухой покойницей невольно узурпировавшей мое отпевание, обменяться с ней впечатлениями, опытом, советами, но ее уже нет. Все вошло в нормальную колею, никто больше не прыскает, на лицах приличествующее случаю выражение, а я по-прежнему томлюсь в одиночестве. Только внешний сбой, путаница в бумажках позволили мне соприкоснуться с другой душой. Если эта встреча в самом деле имела место, она оставила у меня странное впечатление. Маргерит Шевийе никого на земле больше не любила, и вот она свободна. Так, может быть, и я должен отлепиться от живых, чтобы меня приняли в ином мире, но хочу ли я этого? Меня удерживает не только страх перед темной бездной. Я бы не цеплялся так за этот свет, если бы не был убежден, что еще нужен моим близким.
А теперь, ну-ка, одним броском, как гимнаст, проверяющий на турнике свою гибкость, я перенесся в аэропорт. Наила ждет посадки на Маврикий. Наверное, ее стриптиз я прозевал. Она читает женский журнал, статью про керамиды и фруктовые кислоты. Сейчас ей не до меня. Стюардесса объявляет через динамик о задержке рейса по непредвиденным обстоятельствам.
Я собираюсь исчезнуть, но вдруг обращаю внимание на молодого спортивного блондина, похожего на любителя виндсерфинга. Он сидит прямо за Наилой, спиной к ней, и тихонько тянет к себе ее сумку, которую она поставила на пол. Я пытаюсь вмешаться, хотя, наученный горьким опытом, не слишком надеюсь на успех. Изо всех сил мысленно внушаю Наиле: «Обернись и посмотри на свою сумку!» Рука блондина скользит вдоль молнии и замирает на замке. И тут Наила отрывается от журнала, оборачивается, озадаченно смотрит на выруливающий за окном самолет. Молодой человек отдергивает руку, достает из кармана какой-то проспект и делает вид, что изучает его. Наила берет сумку и подходит к стойке. Скорее всего это совпадение или сработала ее собственная интуиция, не думаю, чтобы сказались мои усилия, но меня они утомили.