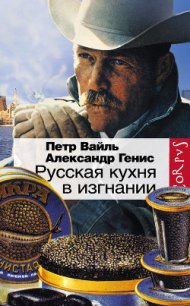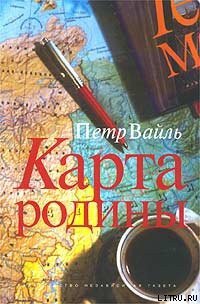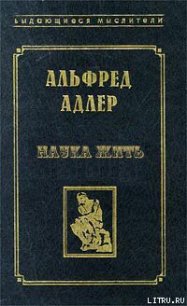Родная Речь. Уроки Изящной Словесности - Вайль Петр (книги полностью бесплатно txt) 📗
И вот тут позволительно высказать догадку: возможно, этот феномен российской словесности, отчасти объясняет жанровая специфика чеховских рассказов. Возможно, дело в том, что многие рассказы Чехова были не просто и не только рассказами.
Писательскую эволюцию Чехова можно считать образцовой, столь же наглядной и убедительной, как движение Пушкина от лицейских стихов к «Медному всаднику», Гоголя от «Ганца Кюхельгартена» к «Мертвым душам», Достоевского от «Бедных людей» к «Братьям Карамазовым» — как большинство удачных творческих карьер в литературе. (Примеры обратных эволюции встречаются куда реже: Шолохов с его нисхождением от «Тихого Дона» к неизвестно чему.) Чехов уверенно рос от «осколочных» рассказов, которые позже сам пригоршнями отбрасывал, комплектуя собрание сочинений, к таким поздним общепринятым шедеврам как «Архиерей» и «Вишневый сад».
Писательская эволюция Чехова была бы образцовой, если б не одно обстоятельство — пьеса «Безотцовщина», написанная им в 1878 году. Гимназист, издававший школьный журнал «Заика», сочинявший водевиль «Недаром курица пела», в то же самое время создал зрелое произведение высоких достоинств.
Отдельная тема: «Безотцовщина» — едва ли не единственная чеховская вещь, в которой явственно влияние в общем-то нелюбимого им Достоевского: и разбойник Осип — несомненная родия Федьке Каторжному из «Бесов», и Платонов в сценах с женщинами, особенно с женой — уникальный для сдержанного Чехова гибрид Свидригайлова и Мармеладова, и совершенно «достоевские», в духе «Идиота», скандалы.
Важнее, что в «Безотцовщине» заложено уже многое из будущей чеховской драматургии, вообще из будущего Чехова — и центральная фигура несостоявшегося героя, и ключевые бессмысленные словечки, и, прежде всего, обостренное чувство трагикомедии, позволяющее безошибочно дозировать смесь страшного и смешного — не по-достоевски, а чисто по-чеховски. В финале пьесы запутавшийся в любовях и обманах Платонов застрелен:
«Трилецкий (наклоняется к Платонову и поспешно расстегивает ему сюртук. Пауза). Михаил Васильич! Ты слышишь?.. Воды!
Грекова (подает ему графин) Спасите его! Вы спасете его!..
Трилецкий пьет воду и бросает графин в сторону» — конечно, это уже Чехов.
Итак, «Безотцовщина» вносит нарушение в стройный график чеховского роста. Писатель начинал с гораздо более высокой ноты, чем та, на которой выдержаны юмористические рассказы в «Осколках». Существенна и длительность этой первой ноты. Сочинение 18-летнего Чехова занимает почти столько же страниц, столько «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» вместе взятые, почти столько же, сколько в сумме «Степь» и «Моя жизнь».
Эти подсчеты важны для констатации: Чехов начинал с большой формы. Тяга к большой форме во многом и определила его дальнейшее творчество. Всю свою жизнь Чехов хотел и собирался написать роман.
Кризис неосуществленной романной идеи обострился к 88–89 гг. Упоминаниями о работе над романом пестрят письма того времени — к брату Александру, Суворину, Плещееву, Григоровичу, Евреиновой. Излагается содержание, приводится подробный план, описываются персонажи, называется количество строк. Но роман не вышел: все, что осталось от замысла — два отрывка общим объемом в десяток страниц.
Однако дело даже не в самих попытках, а в мощном комплексе, который явно был у автора, комплексе, зафиксированном в переписке: «Пока не решусь на серьезный шаг, то есть не напишу романа…», «У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов… Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать…» Здесь отчетливо сознание иерархии, в которой рассказчик несомненно ниже романиста.
Этот профессиональный комплекс неразрывно связан с этическим — с проклятием, сопровождавшим Чехова всю жизнь: обвинениями в равнодушии и безыдейности. Упреки в безразличии Чехов выслушивал и от самых близких — от Лики Мизиновой, например. Но главное, это же твердила критика. Как выразился Михайловский: «Что попадется на глаза, то он изобразит с одинаковой холодной кровью». И до Михайловского подобное на все лады повторяли журналы.
От Чехова требовали общественной идеи, тенденции, позиции. Он же хотел быть только художником. Толстой, хваля его рассказы, говорил, что у него каждая деталь «либо нужна, либо прекрасна», но у самого Чехова нужное и прекрасное не разделено, между ними — тождество. У него было иное представление о существенном и незначительном, о необходимом и лишнем, другое понятие о норме и идеале. Все это было ново, и Чехов бесконечно радовался редким проявлениям внимания к себе именно как к художнику: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой „Припадок“ вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович».
По-настоящему «первый снег» заметили позже. Должно было пройти десять лет после смерти Чехова, должен был появиться столь самостоятельный ум, как Маяковский, чтобы сказать со свойственной ему бесшабашностью: «Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои — безразлично». И еще: «Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только „нужной“ идеей».
Отбиться от обвинений в безыдейности литератор Чехов мог лишь литературным путем — создав нечто серьезное и основательное, опровергнув расхожее мнение о бездумном и насмешливом фиксаторе окружающего. Вопрос о романе стоял с огромной остротой.
88-й год был для Чехова печально примечателен и напоминанием о смерти. Погиб редко одаренный молодой Гаршин, оставивший по себе лишь горсть рассказов. Умер брат Николай — от той же чахотки, которую не мог не знать у себя врач Чехов (первое кровохарканье было у него в 84-м году, в 88-м — сильнейшее, вскоре после получения Пушкинской премии). Писатель Чехов получил извещение, сигнал.
Все три обстоятельства — тяга к роману как к высшей форме литературной деятельности, необходимость изменения своего общественного лица, боязнь не успеть сделать главное — привели к созданию переломного произведения Чехова, рассказа «Скучная история».
Рассказ этот — о себе. Его первоначальное заглавие — «Мое имя и я»: два местоимения первого лица сомнений не оставляют. Чехова одолевали те же мысли, что его героя — престарелого профессора. (Кстати, характерно отождествление себя со стариком — Чехов вообще ощущается умудренным и пожилым, требуется некоторое усилие, чтобы осмыслить, что он умер в 44 года.) Все это о себе: «Я холоден, как мороженое, и мне стыдно», «Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру», «Судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания». Эти слова принадлежат профессору в такой же степени, в какой и самому Чехову, осаждаемому общественным мнением.
Весь рассказ пронизан осознанием тупика и того, что завело в этот тупик. Можно было бы сказать, что происходит кризис материалистического мировоззрения, которое Чехов только что так ярко отстаивал (переписка с Сувориным). В «Скучной истории» выносится обвинительный приговор увлеченности судьбами костного мозга (читай: чистой литературой, всякого рода «первым снегом») в ущерб служению «общей идее»: «Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой».
Герой и автор испытывают эсхатологическое отчаяние: рушится и ускользает все, что составляло смысл бытия. Профессор вдруг проникается пониманием бессмысленности жизни без «общей идеи» — и здесь очень важно, что случается это резко, хоть и не под влиянием какого-то конкретного события (как у Толстого в «Хозяине и работнике»). Оттого и конец предстает не неизбежным постепенным умиранием (как в толстовской «Смерти Ивана Ильича»), а именно тупиком, в который зашла жизнь, и выход из которого может быть спонтанным, разовым. На следующий год Чехов уехал на Сахалин.