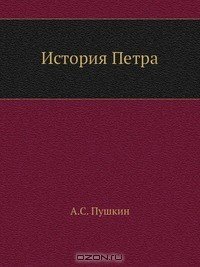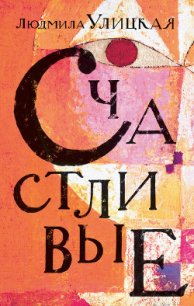Казус Кукоцкого - Улицкая Людмила Евгеньевна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Детская клиника, существовавшая при лаборатории, в летние месяцы обыкновенно сворачивалась, оставляли только острую патологию и отдел развития, в котором содержались здоровые дети, оставленные в роддомах отказавшимися от них матерями. До трех лет их содержали здесь, под присмотром педиатров и физиологов, изучавших развитие «нормального» ребенка, потом распределяли по детским домам. В эти летние месяцы, когда клиника почти прикрывалась, аспиранты и научные сотрудники имели возможность сосредоточиться на той работе, которая в диссертациях шла в раздел «Экспериментальная часть». Жизнь лаборатории становилась интенсивней, в хирургической работали каждый день, по жесткому графику. Прибавлялось работы и Тане – она отвечала за стерилизацию и выдачу инструментов.
Событие, ставшее самым значительным в ее жизни, начиналось очень невзрачно и обыденно. Миловидная, припадающая на полиомиелитную ногу лаборантка Рая, держа в цепких руках лоток, укрытый пожелтевшей от многих стерилизаций пеленкой, попросила выдать ей набор инструментов для наливки тушью.
– Кого наливаешь? – деловито спросила Таня.
– Плод человеческий, – ответила Рая.
Таня звякнула ключом, отпирая стеклянный шкаф с мелкими металлическими драгоценностями, вытащила из сломанного бикса пинцеты, скальпели, фиксаторы, пересчитала весь этот старый металл поштучно и, подбирая зажимы, спросила делово:
– Живой, мертвый?
– Мертвый, – спокойно отозвалась миловидная Рая, расписалась в тетрадке за полученный инструментарий и стала неровно спускаться в полуподвал по круто прорубленной вниз лесенке...
Она уже успела прогромыхать донизу и шкваркала рукой по стене в поисках выключателя, когда Таня поняла, чтоименно она спросила... А поняв, положила ключ от операционной на место, сняла белый халат, повесила его на вешалку и вышла из лаборатории. Больше она туда не вернулась. Не вернулась она и в университет. Роман ее с наукой закончился в этот самый час и навсегда.
20
Неделю она молчала. Утром, как обычно, уходила из дому, шла пешком куда глаза глядят – то в центр, то в Марьину рощу, то в Тимирязевскую академию. Сроду не было у нее такого пустого времени. Лето было поздним, и, хотя был уже конец июня, зелень парков была еще новой, необтрепанной, и липа цвела запоздало, и особенно обаятельными были закоулки, проходные дворы, ветхость деревянных домов казалась милой и домашней, и Таня бродила до устали, потом покупала хлеба, плавленый сырок, бутылку теплого лимонада и устраивалась в каком-нибудь укромном, уютном месте, возле дровяных сараев, на откосе заброшенной ветки железной дороги, в парке на лавочке...
Состояние ее было весьма странным, раздвоенным. Кажется, что она вовсе ни о чем не думала, только ходила и смотрела по сторонам, но мысль сидела внутри ее, сама поворачивалась с боку на бок, так и эдак, и даже не отчетливая какая-то мысль, а это поразившее ее до глубины событие, что она, Таня Кукоцкая, спросила у Раи Пащенковой, живой ли плод, то есть живой ли ребенок, и если бы он был живым, то она выдала бы Рае необходимые инструменты, чтобы налить в вену тушь и умертвить в процессе этого мероприятия живого ребенка... не крысенка, не котенка и не крольчонка, а существо с именем, фамилией и днем рождения... Неужели каждый человек так близок к совершению убийства, или это нечто особое, что произошло только с ней?
Проблуждав по городу с утра до вечера, она возвращалась домой, ужинала, ложилась спать, быстро засыпала, но вскоре просыпалась и маялась без сна. Однажды среди ночи она, не выдержав пустоты бессонницы, оделась и тихонько выскользнула на улицу. Прошлась по окрестным знакомым дворам, преобразившимся в огромные театральные декорации. Вышла луна, быстро пробежала по небу и закатилась над Бутырской тюрьмой. Потом подул ветер, посветлело небо, новая дворничиха, нанятая взамен Лизаветы Полосухиной, начала мести сухой метлой двор, поднимая облачко пыли...
К половине седьмого Таня вернулась домой, легла и заснула. Когда Тома стала ее будить, она пробурчала, что никуда сегодня не идет... Потом Елена склонилась над ней:
– Танюш, что случилось? Не заболела?
Натянув простыню на голову, Таня ответила ясным голосом:
– Не заболела. Сплю. Оставьте меня в покое.
Елена удивилась: что за ответ? Таня никогда не грубила...
Проснулась Таня к обеду. В доме никого не было, даже Василиса куда-то ушла. Таня обрадовалась, что никому ничего не надо объяснять, и опять пошла шататься без цели и без смысла... Палиха, Самотека, Мещанские... Деревянные дома, остатки слободской жизни...
Она, пожалуй, уже была готова поговорить обо всем с отцом и послушать, что скажет ей он, самый главный, самый умный, самый ученый... Но отца не было, он был в срочной командировке, и Таня сердилась и готовила для него длинную ехидную фразу: когда ты нужен, то всегда либо на операции, либо на консультации, либо в Праге, либо в Варшаве...
Еще можно было бы поговорить с Виталькой Гольдбергом, но он шабашил в колхозе в Костромской области... Говорить с матерью, Томой или Василисой – все равно что с кошкой советоваться...
Когда Таня вернулась домой, Тома уже завалилась спать, матери почему-то не было дома, а Василиса сидела на кухне, перебирала гречку.
– Есть будешь? – спросила Василиса.
Есть Тане не хотелось. Она налила себе чаю, села напротив Василисы и огорошила ее вопросом:
– Вась, как ты думаешь, когда душа прикрепляется к ребенку – сразу при зачатии или только при рождении?
Василиса вылупила на нее свой пуговичный живой глаз и ответила без малейшего колебания:
– Знамо дело, при зачатии. А как иначе?
– Это церковное учение или ты сама так думаешь?
Василиса честно наморщила лоб. У нее было упорное заблуждение: именно то, что она думала, и казалось ей церковным учением, но теперь она вдруг засомневалась – второй вопрос оказался сложнее первого.
– Да что ты меня пытаешь, у отца спроси, ему-то виднее, – рассердилась вдруг она.
– Спрошу, когда приедет, – и Таня, оставив грязную чашку на столе, ушла.
Василиса закрыла глаз, задумалась: а неспроста... чего это вдруг ей надо знать про это? Может, Елене шепнуть? Впрочем, и сама Елена в глазах Василисы в этом отношении не была вполне благонадежна.
21
Павел Алексеевич приехал из Польши с целым чемоданом подарков. По своему обыкновению, он зашел в первый попавшийся магазин и закупил все, включая чемодан. Магазин оказался по случайности специализированным – для новобрачных, и потому все покупки были белыми, кружевными, пошлейшими. Василиса с Томой ахали над красотой, а Таня с матерью только понимающе улыбнулись друг другу... Промахнулся отец. Впрочем, туфли белые оказались впору и Елене, и Тане... Прошло еще три дня, прежде чем настало воскресное утро, которого Таня так ждала. К этому времени в бессмысленных прогулках она выходила целую теорию отрицания мира, дурацкого, бредового, поганейшего мира, жить по законам которого она решительно отказывалась.
За завтраком она рассказала отцу о главном происшествии. Очень сдержанно и точно. Ему ничего не надо было разжевывать, он мгновенно понял самое зерно.
– Ты понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить? – закончила она свой рассказ.
Он сидел молча, и Таня молчала, ждала, что он скажет. А он вспоминал ее трехлетнюю, пятилетнюю, примерял на взрослую, с несчастным лицом молодую женщину все ее глупые детские прозвища – бельчонка глазастого, вишенку, котика... Неужели и здесь ожидает его крах?
– Ты хочешь говорить о профессионализме? – спросил он дочь.
– Именно, – кивнула она.
– Видишь ли, профессия – это угол зрения. Профессионал очень хорошо видит один кусок жизни и может не видеть других вещей, которые его профессии не касаются.
– Пап, я читала об эсэсовских врачах. Они проводили опыты по воздействию на человека, кажется, низких температур или какой-то химии. Они ставили опыты на пленных, все равно приговоренных к расстрелу. Ну, к уничтожению.