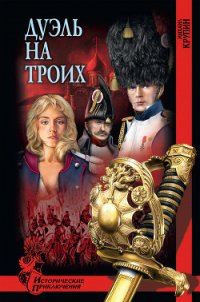Житие Ванюшки Мурзина или любовь в Старо-Короткине - Липатов Виль Владимирович (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
– Допрыгались мы с тобой, Костя! – озабоченно сказал Иван на обратном пути: – Ну куда мы смотрели, когда мимо нас на машине Гошка Гарбузов с бабукой пропылили? Бабуке, понятно, в дымовой завесе живого человека не видать, ну а мы-то Костя, где были? Ты хоть пел, а я…
– Ты, пап, тоже пел, только неправильно. «Якорь, якорь мы отдали…» Якорь – это кто такое?
Нет, не пошли обратно в опустевший дом Костя и Иван, а, рассудив неторопливо, направились к лиственничному громадине дому, в котором родился и вырос Иван Мурзин. Грузовика и здесь не было, хотя следы от него вели к самому крыльцу, на котором и сидели Настя с бабушкой, по-одинаковому выложив руки на колени, словно на картине «Трудовой день окончен». Иван с Костей тоже сели на верхнюю ступеньку и для начала дружно спели:
Кресла, кресла мы совсем продали, Стулья, стулья мы совсем продали, Ах, ура-ура-ура!
Якорь, якорь мы совсем подняли, Ах, ура-ура-ура!
На следующий день в шесть утра Иван проснулся, не найдя под боком жену, пошлепал босыми ногами в сенцы – нету, вышел на крыльцо – пусто! Зевая и потягиваясь, вернулся в горницу, тихонечко окликнул мать, которая голос подала из-за русской печки, где надрючивала на себя «телячью» одежду.
– Ты чего, Иван?
– Настю не видела? Опрежь меня вызвездилась и чего-то не видать.
– Батюшки! Это куда же она подевалась?
Маленький переполох произошел в мурзинском доме, так как Настю нигде не нашли, хотя бегали даже к «скворечне» и осторожно звали по имени; дело кончилось тем, что из спальной комнаты с Настиным платьем в руках вышел Иван, покачал головой. Мать от страху залопотала, но Иван задумчиво объяснил:
– Это она в одном купальнике на Обь ушла. Это ничего, что вода холодная. Пока реку туда-сюда перемахивает, согреется… У тебя самовар-то готов?
– Но.
Настя пришла минут через двадцать, краснотелая, с мокрыми волосами до пояса, и такая напористая, энергичная и злая, что казалось, бухнет по полу коваными сапогами, а не пятками, и не голая, а затянутая хрустящими ремнями и сукном полевой генеральской формы. Вот как бывает: одна наденет платье с «горлом» и до каблуков длиной, но кажется голой, вторая – две тряпицы на ней, а одета с ног до головы.
– Доброе утро! – отчеканила Настя. – Надеюсь, Костю не разбудили?… И глупо, чрезвычайно глупо, Иван, сидеть с моим ситцевым платьем на коленях. Изволь отдать, я его, как говорят чалдоны, поднадену.
Ничего удивительного нет: закусила женщина удила. Это с каждой бывает, а рецепт лечения единственный: пореже попадаться на глаза, молчать, за лицом следить, чтобы не прицепилась: «А ты-то чего хмуришься, чего, спрашиваю, хмуришься?» или наоборот: «Улыбочки строим?» Нет, молчать! Из дому уходить. Возвращаться ни поздно, ни рано.
– Ванюшк, ты куда? – охнула мать, когда сын взял прямой курс к воротам. – Ванюшк, а стюдень, а чай с баранками?
Какой там студень, когда от жены такой сильный пар валил, что создалась в горнице область высокого давления!
Кресла, кресла мы совсем продали, Стулья, стулья мы совсем продали, Ах, ура-ура-ура!
Одно плохо: шесть часов – такое время, когда в уборочную весь деревенский народ давно поднялся и взводами да отделениями валит теперь по дорогам, проселкам и тропинкам добывать хлеб для Ивана Мурзина с домочадцами, которые уезжают в город. У деревенского народа нету времени останавливаться при виде Ванюшки, разевать рот и соображать, как это он в рабочем, то есть чужом для себя, строю оказался? Может, и не уезжает, а может, с какой бабенкой в кедрачах заблудился? «Здорово!» «И тебе: здорово!» – вот и весь разговор.
Второе плохо, только один путь не ведет в Старо-Короткине к пашням, покосам, фермам и силосным ямам – дорога к голубой родимой Оби. Значит, путь один – на реку, купаться в ледяной сентябрьской воде. Иван пересек улицу, взял влево, двинулся по обскому яру, спускающемуся к небольшой прогалине – стометровому в длину и ширину деревенскому пляжу. Шел Иван уже весело, покусывал чистенькую от росы былинку и думал, что в такую рань можно и в сатиновых трусах по колено искупаться и что вообще хорошая мысль пришла ему в голову: «Когда еще доведется в Обишке искупаться. Может, и годы пройдут из-за этой математической шишки и заразы Любки!…»
– Это как же так? – пробормотал Иван, останавливаясь и пятясь.
В огромных черных очках, бикини и сафьяновых туфлях – они-то зачем? – сидела на широченном полотенце Любка Ненашева и, похоже, читала журнал «Крокодил». Шаги Ивана по песку не услышала, шевелила губами, но не забывала протягивать солнцу длинные и полные ноги. От воды наносило холодком, но Любка, и без того вся черная, под солнцем блаженствовала. «Вот это повернул к реке!» – подумал Иван.
Любка Ненашева почувствовала наконец что-то, обернулась, узнав, слегка улыбнулась и гостеприимно повела рукой:
– А чего ты стоишь, Ванюшка, садись, пожалуйста! Вот прямо и садись на купальную простыню. Здравствуй!
– Здравствуй!
Никто в мире точно сказать не может, хороша ли собой или не хороша Любка Ненашева, а вот почему от нее во рту так сохнет, что язык-наждак еле ворочается?
– Пригласила, разговаривай! – обозлился Ванюшка. – Хотел напоследок в Оби искупаться, а тебя принесла холера… Разговаривай!
– Мне с тобой, Вань, трудно разговаривать, – грустно сказала Любка, и глаза сверкнули мокро. – Меня Настасья Глебовна ни за что ни про что оскорбила и унизила. Я уж плакала-плакала, даже устала…
Иван сплюнул.
– Мели, Емеля! Где это она тебя оскорбила? Да и не может того быть – она человек воспитанный!
Любка неторопливо заплакала.
– Вот и ты меня, Вань, оскорбляешь, хотя я тебя так сильно люблю, что до самой смерти… Где оскорбила? Да на этом самом месте. – Она вытерла слезы и начала плакать на другой манер, порциями. – Я говорю, вся радостная: «Доброе утро, Настасья Глебовна! Какая вы красавица!» А она «Здр!» – и в воду. Даже на меня и не посмотрела… Ой, от слез вся промокла! Ну а как она реку туда-сюда переплыла, я, конечно, встала, к ней подошла и прямо говорю: «Зря, Настасья Глебовна, мужа от меня срочно увозите, мебель дешево продаете – вашего мужа Ванюшку Мурзина, друга моего златокудрого детства, я пальцем не трону…» Ой, опять я разревелась, как коровушка!… Любка, говорю, вашего замечательного мужа пальцем не тронет. Я, говорю, Настасья Глебовна, ночь не спала, чтобы в пять часов сегодня вызвездиться и сюда прийти, чтобы ваше сердце успокоить… Тут она, то есть Настасья Глебовна, меня, Ванюшк, и оскорбила…
– Ну?
– Оскорбила…
– Еще раз: ну?
– Дурочка, говорит, бедная дурочка! Что с тебя спрашивать, говорит…
Отсюда вот, с этого песчаного пятачка, получается, и начала печатать генеральский шаг, возвращаясь домой после заплыва, жена Настя… Посмотрев на почти голую Любку, послушав ее, поняв, что бывают женщины с заказным цветом глаз: могут быть черными, карими, зелеными, синими, голубыми… «Бедная дурочка!» – жалеючи сказала Настя, и было в этом много правды и столько же неправды – всякой могла быть Любка Ненашева, смотря по обстановке.
– Реветь перестань, буду считать до трех, – вкрадчиво сказал Иван. – Вот молодец! Теперь отвечай: зачем все это тебе понадобилось? – Он предостерегающе поднял руку. – Только мне-то не говори, что тебе жалко смотреть, как я уезжаю из деревни от матери… Я не Настя! Я-то знаю, что у тебя под челочкой вертится. Зачем на берег пришла? Свести счеты с Настей, если я с тобой в кедрачи не пошел… Любка, я на пределе. Поняла?
– Поняла, поняла! – пролепетала Любка. – Ты прав! Медленно подняла голову, прищурилась, глаза почернели.
– Ты тоже не мальчик, тоже не бедный дурачок. Знаешь, почему сижу на берегу? Ой, да нам ли, Иван, ловчить друг с другом? Пропадаем – дело привычное. – Потянулась вся к Ивану, губы раскрылись, заблестели. – Не могу без тебя, хочу тебя, всегда хочу. В Ромск уедешь – достану, в Лондон – достану, Филаретова А. А. дипломатом сделаю… – Она, как Иван давеча, предостерегающе подняла руку. – Не перебивай! Что я раньше думала, почему твоей женой не стала, это ты не у меня спроси, а у той Любки Ненашевой, которая замуж за Марата выходила! Она тебе объяснит…